Отдел искусств представляет проект «АРТ-закладка»


Проект «Арт-закладка», изначально задуманный как ежемесячный, сформировался в весомую коллекцию редких изданий по искусству в цитатах и иллюстрациях.
Предлагаемая вашему вниманию коллекция, представлена в форме списка литературы в алфавите заглавий. Приятного и познавательного чтения, эстетических впечатлений и интеллектуальных откровений!
Автор проекта Фариза Басиева
Бродский Иосиф. Набережная неисцелимых : эссе / Иосиф Бродский ; пер. с англ. Г. Дашевского. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 192 с.
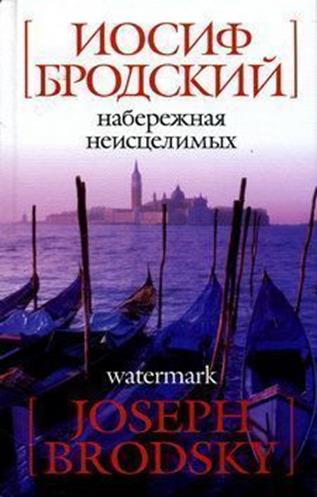
Набережная неисцелимых
(фрагменты)
…Я не праведник (хотя стараюсь не выводить совесть из равновесия) и не мудрец; не эстет и не философ. Я просто нервный, в силу обстоятельств и собственных поступков, но наблюдательный человек. Как сказал однажды мой любимый Акутагава Рюноске, у меня нет принципов, у меня есть только нервы. Поэтому нижеследующее связано скорее с глазом, чем с убеждениями, включая и те, которые касаются композиции рассказа. Глаз предшествует перу, и я не дам второму лгать о перемещениях первого … Изучая лицо этого города семнадцать зим, я, наверно, сумею сделать правдоподобную пуссеновскую вещь: нарисовать портрет этого места если и не в четыре времени года, то в четыре времени зимнего дня.
…Медленное движение лодки сквозь ночь напоминало проход связной мысли сквозь бессознательное. По обе стороны, по колено в черной как смоль воде, стояли огромные резные сундуки темных палаццо, полные непостижимых сокровищ - скорее всего, золота, судя по желтому электрическому сиянию слабого накала, пробивавшемуся сквозь щели в ставнях. Общее впечатление было мифологическим, точнее - циклопическим: я попал в ту бесконечность, которую воображал на ступенях Стацьоне, и теперь двигался мимо ее обитателей, вдоль шеренги спящих циклопов, возлежавших в черной воде, время от времени подымая и опуская веко.

Карл Кауфманн. Венеция
… Зимний свет в этом городе! У него есть исключительное свойство увеличивать разрешающую способность глаза до микроскопической точности - зрачок, особенно серой или горчично-медовой разновидности, посрамляет любой хассельбладовский объектив и доводит будущие воспоминания до резкости снимка из "Нешнл Джиографик". Бодрая синева неба; солнце, улизнув от своего золотого двойника у подножия Сан-Джорджо, скользит по несметной чешуе плещущей ряби Лагуны; за спиной, под колоннадой Палаццо Дукале, коренастые ребята в шубах наяривают "Eine Kleine Nachtmusik", специально для тебя, усевшегося на белом стуле и щурящегося на сумасшедшие гамбиты голубей на шахматной доске огромного кампо. Эспрессо на дне твоей чашки - единственная, как ты понимаешь, черная точка на мили вокруг. Таков здешний полдень. По утрам этот свет припадает грудью к оконному стеклу и, разжав твой глаз точно раковину, бежит дальше, перебирая длинными лучами аркады, колоннады, кирпичные трубы, святых и львов - как бегущие сломя голову школьники прутьями по железной ограде парка или сада. "Изобрази", - кричит он, то ли принимая тебя за какого-то Каналетто, Карпаччо, Гварди, то ли не полагаясь на способность твоей сетчатки вместить то, что он предлагает, тем более -- на способность твоего мозга это впитать. Возможно, последним первое и объясняется. Возможно, последнее и первое суть синонимы. Возможно, искусство есть просто реакция организма на собственную малоемкость. Как бы то ни было, ты подчиняешься приказу и хватаешь камеру, дополняющую что зрачок, что клетки мозга. Придись этому городу туго с деньгами, он может обратиться к Кодаку за финансовой помощью - или же обложить его продукцию диким налогом. И точно так же, пока существует этот город, пока он освещен зимним светом, акции Кодака - лучшее помещение капитала.

Йозеф Збукович. Венеция
На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы четче, шпили тверже, ниши глубже, одежды апостолов складчатей, ангелы невесомей. На улицах темнеет, но еще не кончился день для набережных и того гигантского жидкого зеркала, где моторки, катера, гондолы, шлюпки и барки, как раскиданная старая обувь, ревностно топчут барочные и готические фасады, не щадя ни твоего лица, ни мимолетного облака. "Изобрази",- шепчет зимний свет, налетев на кирпичную стену больницы или вернувшись в родной рай фронтона Сан-Закариа после долгого космического перелета. И ты чувствуешь усталость этого света, отдыхающего в мраморных раковинах Закариа час-другой, пока земля подставляет светилу другую щеку. Таков зимний свет в чистом виде. Ни тепла, ни энергии он не несет, растеряв их где-то во вселенной или в соседних тучах. Единственное желание его частиц - достичь предмета, большого ли, малого, и сделать его видимым. Это частный свет, свет Джорджоне или Беллини, а не Тьеполо или Тинторетто. И город нежится в нем, наслаждаясь его касаниями, лаской бесконечности, откуда он явился. В конечном счете, именно предмет и делает бесконечность частной.

У.Тернер. Догана и церковь Санта Мария Салюте
А предмет этот может оказаться маленьким чудовищем, с головой льва и туловищем дельфина. Второе будет выгибаться, первая точить клыки. Он может украшать вход или просто вылезать из стены без всякой видимой цели, отсутствие которой делает его странно привычным. При определенной специальности и в определенном возрасте нет ничего привычнее, чем не иметь цели. Как и путать черты и свойства двух или более существ и, конечно, их род. В общем, все эти бредовые существа - драконы, горгульи, василиски, женогрудые сфинксы, крылатые львы, церберы, минотавры, кентавры, химеры,- пришедшие к нам из мифологии (заслужившей звание классического сюрреализма), суть наши автопортреты, в том смысле, что в них выражается генетическая память вида об эволюции. Неудивительно их изобилие здесь, в этом городе, всплывшем из воды. С другой стороны, ничего фрейдистского, под- или бессознательного в них нет. Учитывая природу человеческой реальности, толкования снов есть тавтология, оправданная в лучшем случае соотношением дневного света и темноты. Впрочем, сомнительно, чтобы этот демократический принцип применялся в природе, где большинства нет ни у чего. Даже у воды, отражающей и преломляющей все, включая самое себя, меняющей формы и материалы, иногда бережно, иногда чудовищно. Этим и объясняется характер здешнего зимнего света; этим объясняется его привязанность к монстрам -- и к херувимам. Вероятно, и херувимы -- этап эволюции вида. Или наоборот, ибо, устроив их перепись в этом городе, получим цифру, превышающую численность населения.

И. Айвазовский. Венеция
…«А почему же вы туда ездите именно зимой?» – спросил меня однажды мой издатель, сидя в китайском ресторане в Нью-Йорке в окружении своих голубых английских подопечных. «Да, почему? – подхватили они за своим возможным благодетелем. – Как там зимой?» Я подумал было рассказать им об acqua alta; об оттенках серого цвета в окне во время завтрака в отеле, когда вокруг тишина и лица молодоженов, подернутые томной утренней пеленой; о голубях, не пропускающих, в своей дремлющей склонности к архитектуре, ни одного изгиба или карниза местного барокко; об одиноком памятнике Франческо Кверини и двум его лайкам из истрийского камня, похожего, по-моему, цветом на последнее, что он видел, умирая, в конце своего злополучного путешествия на Северный полюс, – бедному Кверини, который слушает теперь шелест вечнозеленых в Жардиньо вместе с Вагнером и Кардуччи; о храбром воробье, примостившемся на вздрагивающем лезвии гондолы на фоне сырой бесконечности, взбаламученной сирокко. Нет, решил я, глядя на их изнеженные, но напряженно внимающие лица; нет, это не пройдет. «Ну, – сказал я, – это как Грета Гарбо в ванне».

Антониетта Брандес.Венеция
…Я всегда был приверженцем мнения, что Бог или, по крайней мере, Его дух есть время. Может быть, это идея моего собственного производства, но теперь уже не вспомнить. В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и – раз я с Севера – к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, нового стакана времени. Я не жду голой девы верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской проницательностью, а с нежностью и благодарностью.

Уильям Тернер.Вид Большого канала в Венеции
…Красота вместо того, чтобы быть обещанием мира, сводится к награде.
…Луна, исключительно высокая, словно какое-то умопомрачительно высокое «си», перечеркнутая нотной линейкой облака, почти не освещала водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно.
…Король Туман въехал на пьяццу, осадил жеребца и начал разматывать белый тюрбан. Его сапоги были мокры, как и сбруя коня; плащ был усеян тусклыми, близорукими алмазами горящих ламп. Он был так одет, потому что понятия не имел, какой сейчас век, тем более год. С другой стороны, откуда туману знать.
…Главное орудие эстетики, глаз, абсолютно самостоятелен. В самостоятельности он уступает только слезе.
…Эстетическое чувство – двойник инстинкта самосохранения и надежнее этики.
…Повторяю: вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Отчасти вода, мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внешность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной и состоит. Ибо город покоится, а мы движемся. Слеза тому доказательство. Ибо мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее. Слеза есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом. Но это против правил. Слеза есть движение вспять, дань будущего прошлому. Или же она есть результат вычитания большего из меньшего: красоты из человека. То же верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит.
Ноябрь 1989 г.

Франческо Гварди. Большой канал в Венеции с палаццо Бембо
Биазарти, К., Бязрова, Л. Сосланбек Едзиты / К.Биарзати, Л. Бязрова – Дзауадзжикау : Веста, 2013. – 136 с., 146 : ил.
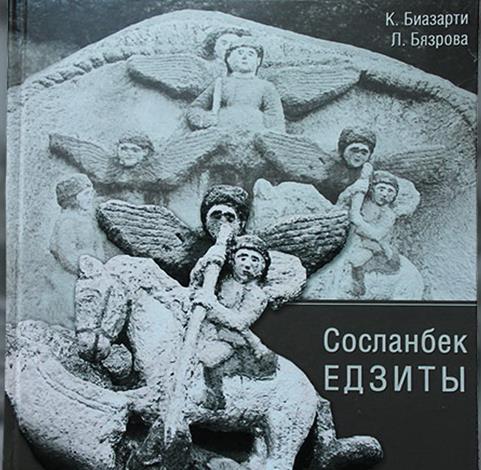
Книга, с которой мы знакомим сегодня читателей, уникальна, как уникален тот, кому она посвящена. Сосланбек Едзиев, сын каменщика Микаила Едзиева, был сказителем, архитектором, резчиком по дереву, скульптором. Мастер – вот слово, вобравшее все его таланты. «Пиросмани осетинского народа», - называют его историки искусства.

М. Туганов. Портрет Сосланбека Едзиева. 1949. Художественный музей им. М. Туганова
«Самое главное для художника – быть взволнованным, любить, надеяться, терпеть, жить. Быть прежде всего человеком и только потом – художником,» - писал Роден.
Сосланбек Едзиев был и тем, и другим – и человеком, и художником. Его творчество – результат необыкновенной любви к жизни, восхищение богатством и красотой ее оттенков. Автор замечательных скульптурных работ и целой серии надгробных памятников, создатель единственных в своем роде деревянных посохов и национальных чаш мог одинаково мастерски обтачивать камни и танцевать, играть на осетинской гармонике. Он был художником от бога, человеком трепетной, тонкой души.
***
Отрывки из книги
Я холодному камню молюсь.
Алихан Токати
…Едзиев был подлинным гуманистом. Пережив две войны, он по-разному проявил себя в 20-е и 40-е годы. Во время Гражданской войны, когда в селе Синдзикау были белые, художник прятал в своем доме раненого русского командира Красной Армии. На кладбище села Карман сохранился памятник, на котором изображена семья, расстрелянная белогвардейцами, - мужчина и трое сыновей. На плечо одного из мальчиков отец положил левую руку, правой он указывает вверх, на пятиконечную звезду, венчающую треугольник, в котором можно угадать шатровое покрытие кремлевской башни. Они погибли за Советскую власть – так объясняет художник трагедию этой семьи.
После того как белых в селе сменили красные, Едзиев прячет в своем доме двух тяжело раненных офицеров. Первый был из казаков, единственный сын своих родителей. Позже Сосланбек помог ему вернуться домой. Другой – дворянин – жил в семье Едзиевых дольше. Следы его теряются в 1937 году. Скульптор приобщал его к своему ремеслу. Еще в 70-е годы можно было увидеть на старых кладбищах Карман-Синдзикау несколько своеобразных стел, на которых изображения были не рельефными, а живописными.
В отношении к событиям, происходящим в эти годы, художник не принимал ни одну из сторон расколовшегося по классовому принципу мира. Он был художником, творцом и бесстрашно оказывал помощь тому, кто в ней нуждался…

Скорбящий ангел. Камень, роспись. Художественный музей им. М. Туганова
Мудрость и провидческий дар Сосланбека проявились в работах, созданных в 30- и начале 40-х годов. Е.Н. Студенецкая рассказывает в своих воспоминаниях: она познакомилась с Сосланбеком Едзиевым в 1938 году и узнала от мастера о посохе, сюжетом которого была борьба советского народа с фашизмом. Герой и его конь попирали ногами свастику. «Но это поистине пророческое предсказание не дошло до нас. Когда автор показал его кому-то из сельского руководства, тот заявил, что Едзиев хочет вовлечь Союз в войну с Германией, отобрал и уничтожил посох».

Рукоять резной трости
Рельеф над дверью дома, построенного Сосланбеком в Алагире, хранит следы фашистских пуль. Расстреливая его, враги не подозревали, что сводят счеты со старым мастером, который боролся с ними своим творчеством.
В период оккупации села Синдзикау Едзиев начал работу над монументальной композицией «Зайлагмар Уастырджи» (свидетельство неиссякаемых физических и духовных сил старого скульптора, ведь ему было 70 лет). С этим памятником связана самая поэтическая легенда из множества, причудливо вплетенных в биографию художника.Три дня поднимался Сосланбек на гору к огромному валуну возле древнего святилища Уастырджи, чтобы начать свою работу – молитву в камне. Но камень не слушался, не подчинялся. После трехдневных неудач художник пришел в смятение, его стали одолевать сомнения: сам Уастырджи не верил или сомневался в победе, поэтому отказывал ему в покровительстве, в благословении на осуществлении замысла. Совсем отчаявшемуся художнику во сне явился Уастырджи. Узнав о причине глубокой печали мастера, сказал: «Иди завтра вновь, твоя работа пойдет!» Действительно, после этого явления все трудности остались позади. По словам старого жителя Синдзикау, резчика Дауки, «камень стал податлив, как глина, работа пошла легко и споро».
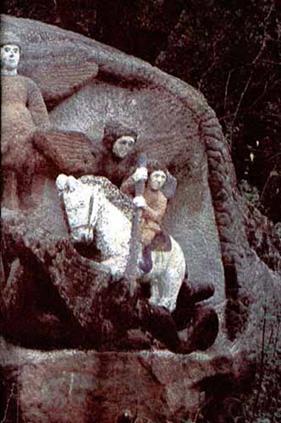
Святой Георгий, убивающий змия. 1942-1943 г. Хурхор. Синдзикау
Обаяние этой легенды не только в чудесном явлении художнику Святого, но и в поэтическом иносказании о творческих муках мастера, о временном смятении перед замыслом и его преодолении, победе над собой…

Автопортрет. 1943. Гранит. Художественный музей им. М. Туганова
Розенфельд Б. М. Шаляпин на Кавказе / Б.М. Розенфельд. – Пятигорск : СНЕГ, 2010. – 224 с. : ил.
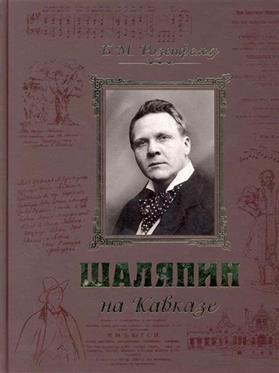
Прелюдия
…Греческие города гордились Гомером, немецкие – Гете, английские – Шекспиром. Наш герой – Шаляпин!
Я взял самое сложное: истоки становления Шаляпина и расцвет его творчества – то есть все, что связано с Кавказом. Здесь он формировался как артист, утверждался как личность, здесь становился Великим.
…Я бы назвал Шаляпина органом – с огромным количеством разных звучащих труб, регистров, педалей – в одном лице солист, режиссер, драматург, художник и общественный деятель.
…Второго Шаляпина нет и не будет. Он открыт для всех, хотя был и остается загадочной личностью. Родственники певца мне рассказали – был у Федора Ивановича заветный ларец, с которым он не расставался нигде и никогда. В семье думали, что там хранятся ценности – золото, бриллианты, награды. Когда же после смерти певца его открыли, там оказалась земля с могилы матери – самое дорогое и святое в его жизни.
Пусть и он для нас остается неповторимым, незаменимым и единственным. Подобного ему не было в мире! Его можно считать гражданином Земли.
Борис Розенфельд
Шаляпин на Кавказе
(фрагменты)
***
Бесстрастный календарь отметил точную дату первой встречи Шаляпина с Кисловодском: 17 июля 1899 года. Это был самый «пик» последнего лета и последнего года XIX столетия. Через полгода шагнет мир в XX век – неизвестный и притягательный век цивилизации, шаляпинского признания, триумфа и его «всесветной славы».
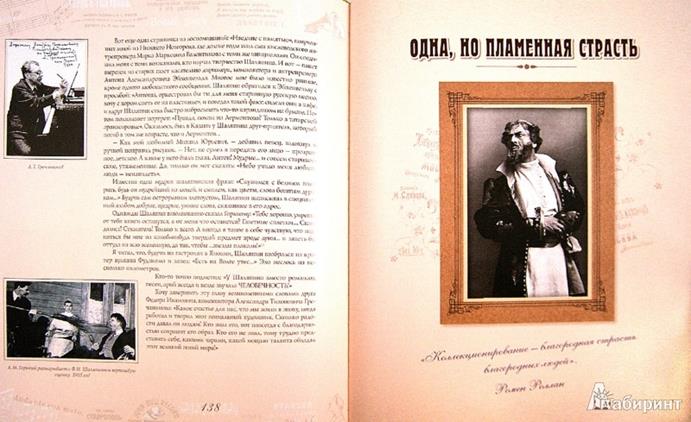
Начались гастроли 21 июля, закончились 20 августа. Шаляпин спел главные партии в операх «Жизнь за царя», «Борис Годунов», «Фауст», «Паяцы», «Псковитянка», «Русалка», «Севильский цирюльник», «Ромео и Джульетта», «Лючия де Ламермур»…
Газета «Казбек» писала о выступлении Шаляпина в опере «Паяцы»: «Таких сборов не было со дня открытия Курзала. Публика неистовствовала, вызывая любимого Шаляпина. В спектакле были заняты такие корифеи, как И. Тартаков, Н. Фигнер, А. Давыдов, несравненная М. Бауэр…»

Кисловодск
И все же напряженные гастроли и репетиции не мешали друзьям совершать прогулки не только по Кисловодску, но и по замечательным местам кисловодского парка. Одним из самых популярных и любимых был Храм Воздуха»
… Ну что делать с этой красотой, с этой несказанной явью? С этим золотом солнца и изумрудом зелени? Замерло сердце Федора Ивановича от увиденной величественной картины – хоть сейчас бери кисть и картон, рисуй, впитывай, обогащайся увиденным. Или - пой!
Горло сдавило привычным предчувствием звука. Но не петь же здесь!.. Публика немедленно обернется на звук его голоса. Так было всегда, даже когда он пел в гостях для друзей, в салонах или на репетициях у домашнего рояля. Собирались под окнами, аплодировали, просили петь еще и еще.
…А какой Кавказ разный! Вот здесь публика по парку ходит по тропинкам, посыпанным красным песочком. А небо высокое да синее, и тишина и покой какой-то особенно мягкий, бархатный. И цепь гор – вокруг – просто чаша исполинская, а Кисловодск на донышке уместился! Уютно. Другое дело – Дарьял с его ревом пугающе-грозным. Но и то и другое – все равно «Кавказ, который Демону да мне покоя не дает…»

К. Коровин. Шаляпин в роли Демона.
Есть сведения, что, задержавшись в Кисловодске, Шаляпин дал два концерта: один из них – бесплатный – для инвалидов мировой войны, которых довольно много скопилось в госпиталях на Кавминводах. В этот приезд он съездил в Нальчик, где в его честь устроили пикник с шашлыками, кавказскими танцами и джигитовкой…
В письме к дочери 10 августа 1917 года он писал: «…Эти кабардинцы, узнав о моем приезде, собрались компанией и устроили мне пикник – говорили речи, жарили на огне целого барана, танцевали, пели… Все это происходило в горах, из-за которых с одной стороны открывался вид на необозримую степь, а с другой – снеговую цепь Кавказского хребта. Зрелище поистине величественное и замечательно красивое».
Федор Иванович остановился в Долинске и провел там чуть меньше недели. Домик этот сохранился. Сейчас в нем аптека, а в ту давнюю пору он принадлежал семье С.А. Закржевской.
Узнав об этом путешествии, я подумал о вполне осуществимой идее отметить этот домик мемориальной доской в память о посещении великим артистом Кабардино-Балкарии.
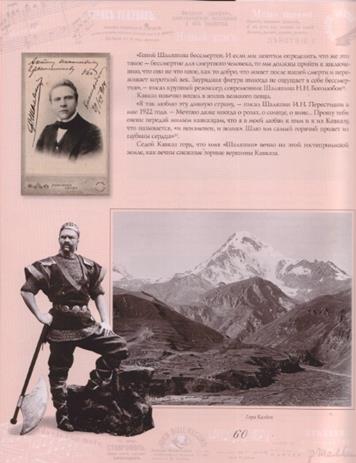
Сохранилась легенда о чеченском бандите из аула Шали Зелимхане. Возможно она бытовала и раньше, но в разных вариациях ее пересказали: писатель Дзахо Гатуев, Дивлет Гиреев, Николай Маркелов. Нам удалось разыскать публикацию в газете «Одесские новости» за 4 ноября 1910 г...
В сентябре после гастролей в Тифлисе Шаляпин с друзьями решил проехаться по Военно-Грузинской дороге до Владикавказа.
«Вокруг – торжественная тишина. Слева – ущелье, справа – отвесный обрыв. Мы едем вперед. Округу держала в страхе банда Зелимхана — крупного разбойника. Узнав, что на него охотится полиция, Зелимхан задумал ее опередить. Устроил засаду. Завидев авто, решил, что едет большой полицейский начальник. Остановил: «Выходи по одному».
Когда из машины вылез Федор Иванович — 196 см ростом, с огромным золотым перстнем на пальце, атаман сразу «догадался»: точно он, его враг. Полицейский начальник Вербицкий наставил в грудь винтовку
Да что вы, ребята! Какой из меня начальник полиции? Я же Шаляпин, певец. Или не знаете?
Чем докажешь? — не унимался Зелимхан.
Тогда пленник запел. Его чудный бас пошел эхом по ущельям, заворожил всех слушающих:
Хас-Булат удалой!
Бедна сакля твоя,
Золотою казной Я осыплю тебя...
Зелимхан сказал:
Да, я верю. Так может петь только Шаляпин. У меня даже глаза резать стало. Нехорошо, если с мужчиной такое бывает. Поедешь к своим — не рассказывай о том, что видел, как Зелимхан от песни чуть не заплакал. Плохие люди не поймут силу песни, подумают, что я тряпкой стал...
Шаляпин подумал тогда: «Зрители и слушатели бывают у всех певцов, а вот такой концертный экзамен выдерживают немногие».

Пространство Шавкат.А : альбом. – М.: ГМИИ им А.С. Пушкина, 2005. - 175 с.: ил.
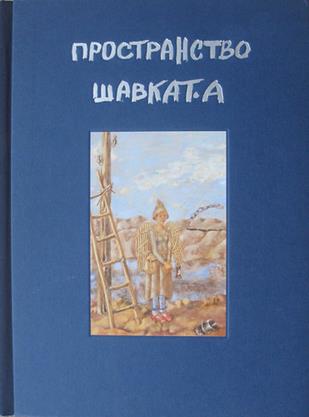
Наша справка:
Шавкат Абдусаламов – живописец, сценограф, художник кино, литератор. Закончил ВГИК (1966), работал художником-постановщиком на фильмах Андрея Тарковского, Элема Климова, Али Хамраева. Выступил в качестве актера в фильмах А. Хамраева «Триптих», «Телохранитель». Работал с М. Антониони и Т. Гуэррой над кинопроектом "Воздушный змей".Первая персональная выставка состоялась в 1972 году. В 2000 году роман Абдусаламова «Единорог» (эпическая притча) попал в длинный список премии «Русский Букер». В 2011-мШавкат Абдусаламов был удостоен Премии Правительства РФ за выставочный проект «Пространство Шавкат.А» в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве.
Пространство Шавкат.А
…Он перенес меня в свою пустыню, где жили персонажи, созданные светлой тайной, защищенные паутиной дерева, которое выдерживает время от времени снежные метели. Мир сказочной чистоты и невинности, которая то исчезает, то вновь возникает в памяти тех, кому посчастливилось наполниться этими видениями…
Тонино Гуэрра

Абдусаламов Ш. Рождество
Шавкат.А не обольщает никого национальной экзотикой. Он художник, стоящий на середине пути между христианской Европой, выбеленной до кости Азией и едва различимым в тумане Востоком. Его живопись – лазурит в оправе, треснувшей от зноя, глины. Из рук, обмакнутых в грязную жирную охру, вырастает голубой кувшин.
Его пергаментные фигуры головой достают небо. Они долговязы, как «Идущий Ван Гог» Осипа Цадкина. Они засыпаны песчаной мукой из мельничных жерновов, высужены голубизной неба.
Ю. Норштейн
Шавкат разливает зеленый чай в маленькие пиалы и рассказывает нам историю Мириам, которая родила мальчика с рогом во лбу.
Мы приехали в первый раз и знаем только, что он знаменитый художник, с которым работали Тарковский, Климов, Шепитько. Но на самом деле мы не знаем ничего о нем.
Шавкат рассказывает о Хивании, об ангеле, тихо спящим в саду у Единорога. И вдруг мы начинаем понимать, что все эти события происходят сейчас с нами, в этот самый момент. А Мириам, или Мария, как зовется она в Священном Писании, вместе с ангелом в красных босоножках смотрят на нас с холстов, висящих в мастерской.
«Рождение младенца как и Голгофа – это не то, что произошло однажды, тысячу лет назад, - говорит Шавкат. – Это постоянно длящийся акт». Он почувствовал это давно.
Мы еще почти не знакомы. И вдруг он говорит о своем только что законченном романе: «Там есть и Андрей Тарковский, и мои учителя, и жена Аллочка. Там есть и вы…»
И правда, его роман обо всех нас, о тех, кто знает и любит Шавката, и о тех, кто смотрит на его картины или листает страницы его книги.
И. Изволова
***
Дорога, она как бесконечность, она всегда.
Идет странник, идет давно.
На длинных одеждах следы износа, пыли, соли.
Есть в мире некие постоянные величины.
Странник мой, быть может, одна из них…
Ш. Абдусаламов

Благая Весть
***
Будь мы более внимательны к самим себе, мы бы начали не с колеса, а с крыльев.
Искусство
***
Самым лучшим памятником какой-либо эпохе все же является искусство. Всякая другая форма жизни представляет собой зло или сгусток крови.
***
Нам бы всем влиться в контекст общечеловеческой культуры. Не размежеваться, а влиться. Не дело искусства играть в политику.
***
Хождение по проволоке есть единственно правильное ощущение мира в художнике.

Мечты
***
Когда человеку становится тесно жить внизу, он начинает строить что-нибудь высокое. И это правильно. Мы полезем с тобой по лестнице на Стену, чтобы надолго изумиться широтой.

Мириам скинула с ног сандалии и поставила босую ногу на первую ступеньку.
- И ты разуйся, - сказала она сыну и добавила: - Так надо, для чуткости. Если бы на лапках птички были ботиночки, ей трудно было бы усидеть на ветке.

Бегство в Египет
Родина
***
Степь была огромна, ее нельзя было оставить, из нее нельзя было выйти, ибо звалась она Родиной. Жизнь, лишенная эстетического смысла, скоро тускнеет. Если все мы – божеское проявление, не означает ли это. что каждый из нас вправе претендовать на исключительность… Увы, все это так… Если бы не наш провинциализм. А разве земля по отношению к небу не провинция?

Ангел с чашей
***
И тогда мне пришла в голову мысль: а что, если сгенерировать детский смех на случай Страшного Суда… Являются лютые судьи неба, а мы им наши смеющиеся кубики в ноги. «Господи, это мы, а то, что позади нас, то наши несовершенные тени».
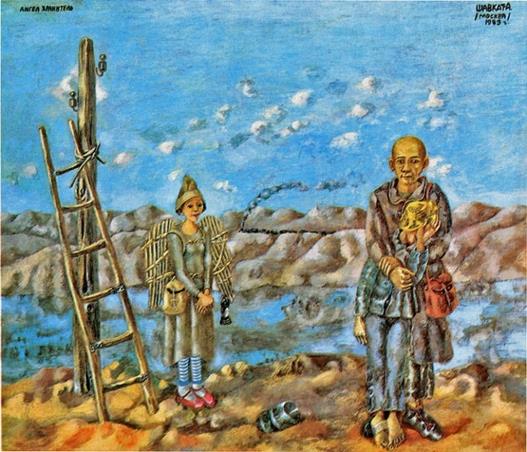
Ангел-Хранитель
***
Семья Юсуфа перебралась в холмы, укрылась в заброшенном Карьере. Как только старик понял – рог с головки сына не падет, - так и съехал с насиженного места.

- Надо пока что держаться подальше от людей.
Мириам только сказала:
- Возьму самое необходимое.
Серый осел не пошел, к тому времени он совсем одряхлел, остался доживать на виду автострады. Собака пошла с ними. На то и собака. В холмах она жила-жила, да и издохла. Братья наши меньшие недолго радуют своим присутствием. Петух тоже подался на новые земли. А как иначе? Нельзя без петуха, утра не будет. Нельзя без нового утра, день не сложится, а там, глядишь, и жизнь пойдет шиворот-навыворот. Нельзя без меры.

Птицелов
***
Он так любил ее, что от этой нестерпимой муки порой плакал. А когда стало не в силах более терпеть, он взял и убил ее. Но когда и он падал от избытка свинца и боли в груди, снова услышал давнее, дивное, нежное, сладко-ядовитое: «Мой бедный художник!» - и так явственно, что закричал от невозможности быть с ней. Кто-то другой, простучав башмаками по цементному полу, склонился над ним, но его уже не было. Маруся встретила его за воротами тюрьмы. Стриженная, босая, с узелком в руке, она одиноко топталась у края дороги под холмом. Он обнял ее, и они пошли вверх по холму.

С возлюбленной на коленях
Дорога под ними была давней, пыльной, на ней не было следов, как не оставалось следов и за ними. Пыль не проминалась, след не пропечатывался; так бывает, когда ходят по водам, облаку, упругим травам. Губы Маруси дрогнули, она сказала: «Как странно, однако». Он молча приник к их алому свету, как там, в переменчивом свете жизни. На вершине холма он обратил внимание на то, что и здесь были свои дали с вершинами, но без леса, трав и сизой дымки в лощинах. На удивление все было голо, уныло и беззвучно. Видимый мир не жил, он просто существовал.
Все, что они успели нашептать друг другу, было таким же вялым, вязким, скучным.
В самом их дыхании не было ничего такого, из-за чего можно было бы страсти взяться за нож. Не жизнь, а сплошной христианский мотив.
- Здесь нет теней, - промолвила Маруся. – Один ровный свет, и он ниоткуда.
«Да, не блудит на этих землях знойный ветер», - сказал он себе, и такая тоска нашла на него, что он снова, как там и тогда, в тюремном подвале, сминая эхо карающего выстрела, прокричал:
- Ма-ру-ся!
Бедная, она стояла рядом, была на расстоянии голубиного перышка, но крика возлюбленного не услышала.
И тогда, и потому, и оттого он повалил ее в немнущуюся пыль, тесно обнял и только тут ощутил их обоюдную смерть.
- Нас нет, - сказал он ей. – Мы, Маруся умерли, убились любовью.
Она прижалась к нему, и он увидел обыкновенное, увидел скоро скатившуюся по щеке слезу.
«Ах, вот какова природа жемчуга, ах, какая догадка осенила меня! А они там, глупые, ныряют за ним на дно океана».
- Плачь, сладкая женщина, плачь. Жемчуг – не самая низкая цена нашей любви…

Разлука
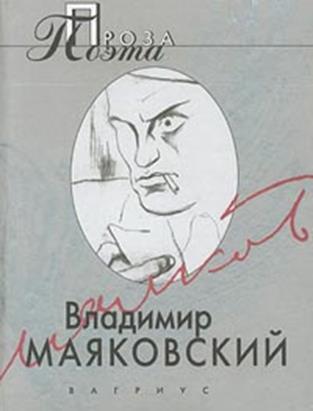
СЕМИДНЕВНЫЙ СМОТР ФРАНЦУЗСКОЙ ЖИВОПИСИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Смотр – иначе не назовешь мое семидневное знакомство с искусством Франции 22-го года.
За этот срок можно было только бегло оглядеть бесконечные ряды полотен, книг, театров.
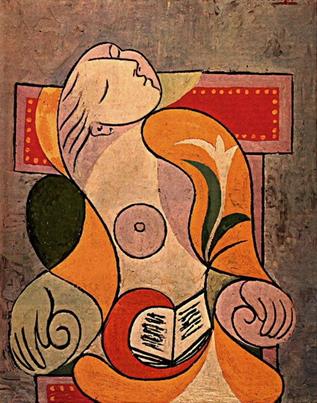
П. Пикассо. Чтение (Мария Тереза).
Из этого смотра я выделяю свои впечатления о живописи. Только эти впечатления я считаю возможным дать книгой: во-первых, живопись – центральное искусство Парижа, во-вторых, из всех французских искусств живопись оказывала наибольшее влияние на Россию, в-третьих, живопись – она на ладони, она ясна, она приемлема без знания тонкостей быта и языка, в-четвертых, беглость осмотра в большой степени искупается приводимыми в книге снимками и красочными иллюстрациями новейших произведений живописи. Я считаю уместным дать книге характер несколько углубленного фельетона. Меня интересовали не столько туманные живописные теории, философия "объемов и линий", сколько живая жизнь пишущего Парижа.
Вл. Маяковский
О ЧЕМ?
Эта книга о парижской живописи + кусочки быта.
До 14 года не стоило выпускать подобной книги.
В 22 году – необходимо.
До войны паломники всего мира стекались приложиться к мощам парижского искусства.
Российские академии художеств слали своих лауреатов доучиваться в Париж.
Любой художник, побывший год в Париже и усвоивший хотя бы только хлесткость парижских картиноделателей,- удваивался в цене.
Меценаты России, напр., Щукин, совершенно не интересовались современной русской живописью, в то же время тщательно собирали искусство парижан.
Париж знали наизусть.
Можно не интересоваться событиями 4-й Тверской-Ямской, но как же не знать последних мазков сотен ателье улицы Жака Калло!

А. Матисс.Очертания Нотр-Дам ночью.
Сегодня – другое.
Больше знаем полюсы, чем Париж.
Полюс – он без Пуанкарей, он общительнее.
Еще политика и быт – описываются.
Товарищи, на неделю тайно въехавшие во Францию на съезд партии, на съезд профсоюзов, набрасываются на эти стороны французской жизни.
Искусство – в полном пренебрежении.
А в нем часто лучше и яснее видна мысль, виден быт сегодняшней Франции.
До войны Париж в искусстве был той же Антантой. Как сейчас министерства Германии, Польши, Румынии и целого десятка стран подчиняются дирижерству Пуанкаре, так тогда, даже больше, художественные школы, течения возникали, жили и умирали по велению художественного Парижа.
Париж приказывал:
"Расширить экспрессионизм! Ввести пуантиллизм!" И сейчас же начинали писать в России только красочными точками.
Париж выдвигал:
"Считать Пикассо патриархом кубизма!" И русские Щукины лезли вон из кожи и из денег, чтобы приобрести самого большого, самого невероятного Пикассо.
Париж прекращал:
"футуризм умер!" И сразу российская критика начинала служить панихиды, чтоб завтра выдвинуть самоновейшее парижское "да-да", так и называлось: парижская мода.
Я въезжал в Париж с трепетом. Смотрел с учащейся добросовестностью. С внимательностью конкурента. А что, если опять мы окажемся только Чухломою?
ЖИВОПИСЬ
Внешность (то, что вульгарные критики называют формой) всегда преобладала во французском искусстве.
В жизни это устремило изобретательность парижан в костюм, дало так называемый "парижский шик".
В искусстве это дало перевес живописи над всеми другими искусствами – самое видное, самое нарядное искусство.

П. Пикассо.Девушка перед зеркалом.
Живопись и сейчас самое распространенное и самое влиятельное искусство Франции.
В проектах меблировки квартир, выставленных в Салоне, видное место занимает картина.
Кафе, какая-нибудь Ротонда сплошь увешана картинами.
Рыбный ресторан – почему-то весь в пейзажах Пикабиа.

Франсис Пикабиа:Picabia
Каждый шаг – магазин-выставка.
Огромные домища – соты-ателье.
Франция дала тысячи известнейших имен в живописи.
***
Все на своих местах.
Только усовершенствование манеры, реже мастерства. И то у многих художников отступление, упадок.
По-прежнему центр – кубизм. Попрежнему Пикассо – главнокомандующий кубистической армией.
По-прежнему грубость испанца Пикассо "облагораживает" наиприятнейший зеленоватый Брак.

Жорж Брак. Дома в Эстаке.
По-прежнему теоретизируют Меценже и Глез.
По-прежнему старается Леже вернуть кубизм к его главной задаче – объему.
По-прежнему непримиримо воюет с кубистами Делонэ.
По-прежнему "дикие" Дерен, Матис делают картину за картиной.
***
Вот Брак. 18 солидных вещей. Останавливаюсь перед двумя декоративными панно.
Какой шаг назад! Определенно содержательные. Так и лезут кариатиды. Гладенький-гладенький.
Серо-зелено-коричневый. Не прежний Брак, железный, решительный, с исключительным вкусом, а размягченный, облизанный Салоном.
Леже. Его сразу выделишь яркостью, каким-то красочным антиэстетизмом. Но и его антиэстетизм, в его мастерской кажущийся революционной, силой, здесь тоже рассалонен и выглядит просто живописной манеркой.
Смотришь на соседние, уже совсем приличные академические картинки и думаешь: если все это вставить в одну раму и чуточку подтушевать края, не сольется ли все это в одну благоприличную картиночную кашу? Кубизм стал совсем комнатным, совсем ручным.
Нажегшись на школах, перехожу к отдельным.
Матис. Дряблый. Незначительный. Головка и фигурка… Испытываю легкую неприятность, будто стоишь около картинок нашего отечественного Бодаревского.
ПИКАССО
Первая мастерская, в которую нужно пойти в Париже, это, конечно, мастерская Пикассо. Это самый большой живописец и по своему размаху и по значению, которое он имеет в мировой живописи. Среди квартиры, увешанной давно знакомыми всем нам по фотографиям картинами, приземистый, хмурый, энергичный испанец. Характерно и для него и для других художников, у которых я был, это страстная любовь к Руссо.

П. Пикассо. Красное кресло
Все стены увешаны им. Очевидно, глаз изощрившегося француза ищет отдыха на этих абсолютно бесхитростных, абсолютно простых вещах. Один вопрос интересует меня очень – это вопрос о возврате Пикассо к классицизму. Помню, в каких-то русских журналах приводились последние рисунки Пикассо с подписью: "Возврат к классицизму". В статейках пояснялось, что если такой новатор, как Пикассо, ушел от своих "чудачеств", то чего же у нас в России какие-то отверженные люди еще интересуются какими-то плоскостями, какими-то формами, какими-то цветами, а не просто и добросовестно переходят к копированию природы.
Пикассо показывает свою мастерскую. Могу рассеять опасения. Никакого возврата ни к какому классицизму у Пикассо нет. Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации: девочка совсем серовская. Портрет женщины грубо-реалистичный и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом. Его большие так называемые реальные полотна, эти женщины с огромными круглыми руками – конечно, не возврат к классицизму, а если уж хотите употреблять слово "классицизм" – утверждение нового классицизма. Не копирование природы, а претворение всего предыдущего кубического изучения ее. В этих перескакиваниях с приема на прием видишь не отход, а метание из стороны в сторону художника, уже дошедшего до предела формальных достижений в определенной манере, ищущего приложения своих знаний и не могущего найти приложение в атмосфере затхлой французской действительности.
Смотрю на каталог русской художественной выставки в Берлине, валяющийся у него на столе. Спрашиваю: неужели вас удовлетворяет снова в тысячный раз разложить скрипку, сделать в результате скрипку из жести, на которой нельзя играть, которую даже не покупают и которая только предназначается для висенья и для услаждения собственных глаз художника?
Почему,- спрашиваю, – не перенесете вы свою живопись хотя бы на бока вашей палаты депутатов? Серьезно, товарищ Пикассо, так будет виднее.
Пикассо молча покачивает головой.
– Вам хорошо, у вас нет сержантов мосье Пуанкаре.
– Плюньте на сержантов,- советую я ему,- возьмите ночью ведра с красками и пойдите тихо раскрашивать. Раскрасили же у нас Страстной!
У жены мосье Пикассо, хоть и мало верящей в возможность осуществления моего предложения, все же глаза слегка расцвечиваются ужасом. Но спокойная поза Пикассо, уже, очевидно, освоившегося с тем, что кроме картин он ничего никогда не будет делать, успокаивает "быт".
Розинер Ф. Искусство Чюрлениса / Феликс Розинер. – М.: Терра, 1993. – 408 с. : ил.
Из предисловия
Я стремился сделать свою книгу ясной и доступной для тех, кого я назвал бы «просвещёнными любителями искусств» и кто, в сущности, являются самыми искренними и достойными читателями, зрителями, слушателями. Помимо прочего, я хотел поделиться с ними своей любовью к художнику — любовью, которой живу уже почти тридцать лет. И если где-то она выражена слишком сильно, я надеюсь, что те, кто благодаря этой книге узнают и полюбят Чюрлёниса, меня поймут и… простят.
Кембридж, США, 1988
М. Розинер
Отражения в слове
(Фрагмент)
В этом разделе представлены те оригинальные словесные тексты Чюрлёниса, которые выражают прямую связь с его художественным мышлением. Несомненно, что поэтическое «я», с таким богатством проявившееся в живописи и в музыке Чюрлёниса, явственно отразилось и в его словесном творчестве.
… Особенный интерес вызывает сегодня его поэтическая лирика — та, которая не искала печати, не предназначалась ничьему вниманию, кроме как глазам близких и любимых им людей. Стихотворная поэма, сказка - притча, поэма о море, написанная поэтической прозой, записи в альбоме, которые тоже можно отнести к жанру стихотворений в прозе, небольшое, известное в устном пересказе, стихотворение и многие лирические фрагменты из его писем родным, жене и друзьям — вот то, что составляет словесную поэзию Чюрлёниса.
Эти немногие поэтические страницы сами по себе имеют немалую художественную ценность. Они, несомненно, находятся в русле символистской поэзии и прозы начала века и позволяют нам увидеть в них некое очень личное, уже внелитературное, а потому особенно естественное и живое отражение чувственного и образного мышления художника, поэта, музыканта эпохи начала века, кем и предстаёт перед нами Чюрлёнис. Многое здесь написано в состоянии эмоционального подъёма и часто бывает сентиментально — не следует при чтении забывать, что целый ряд записей посвящён или предмету любви, или интимным друзьям, но всегда автор этих страниц остаётся поэтом, искренним и простым в выражении чувства и мысли.
***
Осень. Голый сад.
Полураздетые деревья шумят и засыпают листьями тропинки,
а небо серое-серое, и такое грустное,
как только душа может грустить.
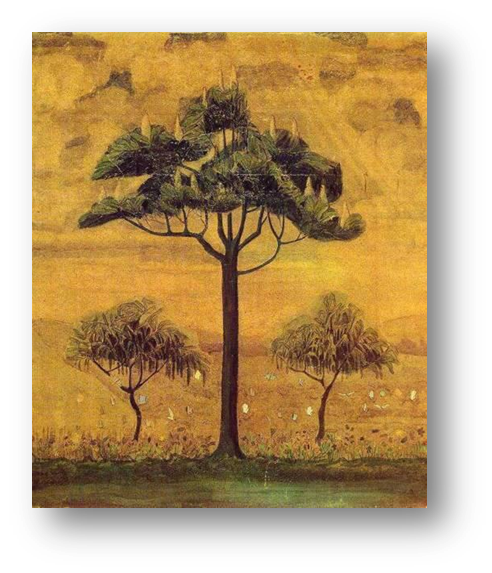
Через грядки и поляны идёт человек.
С мешком на плечах и с граблями в руке
идёт через грядки, а там недавно были цветы,
сейчас всё равно…
Осень. Грустит душа.
А небо серое. Нет пути!
Его засыпали жёлтые кленовые листья.
Деревья стоят полураздетые в опустелом саду и шумят...
Осень. Дождь перестал,
и солнце раздвинуло грустную занавесь облаков и взглянуло.
Какое прекрасное!
Засиял опустелый сад,
полураздетые деревья перестали шуметь,
а листья непрестанно падают на траву, на кусты, на тропинки.
Им всё равно…
***
Я видел горы,— тучи ласкали их:
Я видел гордые снежные вершины, которые
высоко, выше всех облаков,
возносили свои сверкающие короны.

Я слышал грохот ревущего Терека, в
русле которого уже не вода, а ревут
и грохочут, перекатываясь в пене,
камни. Я видел… Эльбрус, подобный
огромному снежному облаку впереди
белой горной цепи. Я видел на закате
солнца Дарьяльское ущелье среди диких
серо-зелёных и красноватых причудливых
скал. Мы шли тогда пешком,
и эта дорога, как сон, на всю жизнь
останется в памяти...
***
Могучее море. Велико, беспредельно, безмерно. Целое небо обводит своею голубизной твои волны, а ты, полно величия, дышишь тихо и спокойно, ибо знаешь, что нет конца твоей мощи, нет пределов твоему величию, твоё бытие бесконечно. Велико, могуче, прекрасно море!

Ночью смотрит на тебя полмира, далёкие солнца погружают в
твои глубины свой мерцающий, таинственный, сонный взгляд, а ты, вечный король
великанов, дышишь покойно и тихо, знаешь, что ты одно есть и над тобой нет королей.
Ты морщишься, на голубом лице твоём как будто недовольство. Ты морщишься?
Неужели это гнев? Кто бы осмелился против тебя, о непостижимое в своём бескрайнем
величии море, кто бы осмелился пойти против тебя?

***
Я был сегодня на лугу и там узнал
прелюбопытные вещи. Ромашка, легко
качаясь на одной ножке, выдала мне
тайну: здесь была Ари и ласкала её
в своих белых ладонях, грела своим
взглядом и шептала, что из всех цветов
она больше всего любит ромашки, —
ведь это самый прекрасный
полевой цветок.

***
…Палка, пелерина. Ночь светлая,
настроение тоже просветлённое. Небо
окутано зеленоватым туманом, словно
заткано серебряной паутиной. Кое-где
звезда, будто заблудившаяся, попавшая
в сети мушка трепещет золотыми
крылышками, а в самом центре — луна-паук
смотрит значительным, мигающим
большим глазом. И всё происходит
в какой-то священной тишине.

Дальнейший путь был ещё прекраснее.
Луна закатилась, и ярко засверкали
звёзды, чудеснейшая часть небосвода:
Орион, Плеяды, Сириус, эта «Калифорния»
по Фламмариону…
***
Слушай. Слушай внимательно, затаив
дыхание. Слышишь? Как тихо
переговариваются звёзды…

***
Хотел бы я окружить тебя маем,
полным запаха цветов и тишины, а
под ноги твои бросить прекраснейший
ковёр Махарани, сотканный из золотой
паутины и хризантем белее снега.
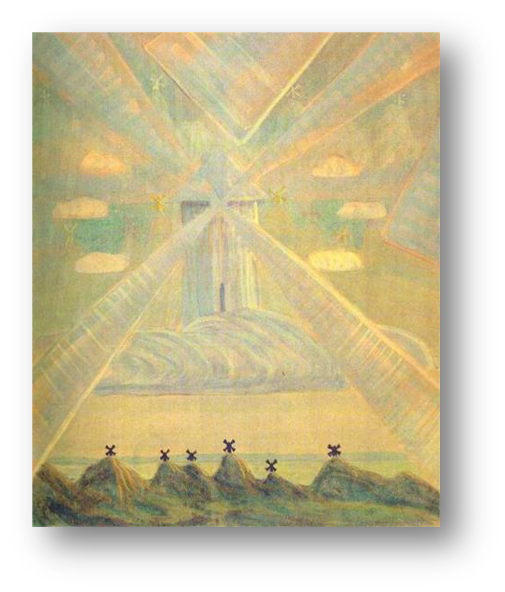
***
Знаешь ли, Казбечек, когда мы сидели morn раз на горке, я потихоньку спустился в
долину и наблюдал за нами. Ты вся была на солнце, и солнце в Тебе, а я был очень осве-
щён Тобою, и большая тень падала от меня почти через всю горку. И грустно мне ста-
ло, поэтому, знаешь, пошёл я тогда долинами далеко-далеко, а когда вернулся к нам,
Ты ещё светилась, но моей тени уже совсем не было. Мы были очень заняты, нужно
было землянику поделить ровно пополам. Положили её на листочек и очень серьёзно
поделили между собой эту маленькую земляничку. И вспомнил я тогда, что было вре-
мя, когда мир был похож на сказку. Солнце светило стократ ярче.
Огромные леса блестящих орехов толпились по берегам сонных изумрудных озёр, и средь
золотистого хвоща, что высотой до небес, летел страшный птеродактиль, летел шумно, удиви-
тельный и горящий угрозой, и исчезал в лучезарной мгле двенадцати радуг, вечно
стоящих над тихим океаном.
Ты помнишь те времена, малютка? Помнишь, правда? О, несомненно. Не отпирай-
ся, это видно по твоим глазам. Ты, маленький мой Казбечек.

***
…Помни, что исполнятся все наши
желания, все мечты. Счастье с нами,
а если судьба слегка мешает и стесняет,
то уж такая у неё привычка.
Будет Кавказ, будет Париж, фиорды…
Я стану играть в вечерних сумерках,
мы вместе будем читать прекраснейшие
книги. А зимой у большого камина будем
обсуждать то, что было и будет.
Вместе обсудим новые сценические
замыслы. Я вижу, как горят твои светлые
глаза, как мысль твоя летит метеором,
и, ощущая бескрайнюю радость,
свято, твёрдо верю, что серость, жалкая
проза никогда не проникнут в наш
Дом. Ты будешь оберегать наш Алтарь,
ты, чудесная моя Жрица! Вся наша
жизнь сгорит на жертвеннике Вечного
и Всемогущего искусства. И скажи —
разве не мы самые счастливые люди
на свете?
***
Любовь — это восход солнца, полдень
долгий и жаркий, вечер тихий и
чудный. А родина её тоска.
Любовь — это старая песенка.
Любовь — это качели из радуги,
подвешенные на белых облаках.
Любовь — это мгновение блеска всех
солнц и всех звёзд.
Любовь — это мост из чистого золота
через реку жизни, разделяющую
берега «добра и зла»...
Любовь — это дорога к солнцу,
вымощенная острыми жемчужными
раковинами, по которым ты должен
идти босиком.

Геор Хугаев. Театр – судьба моя : рассказы, портреты, диалоги, размышления / сост. Хугаева В.В. – Владикавказ : Ир, 2011. – 302 с.
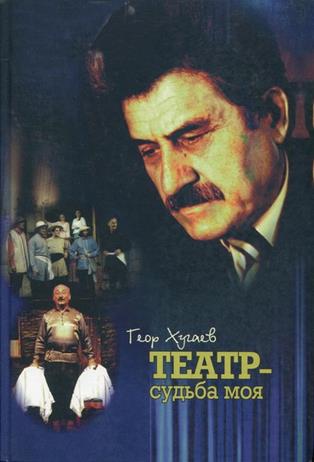
Автограф на память
Дорогим моим друзьям, нашей «классической» библиотеке! От всей души дарю вам Слово о самом дорогом, что было в моей жизни.
1.02. 2015 г. Валерия Хугаева

Геор Хугаев. Театр – судьба моя
Вся наша жизнь, как сцена без границ
Свои в ней комики, свои герои…
Но среди тысяч масок десять лиц
Найти, поверьте, дело непростое…
Одно из них – твое лицо, Геор!
Театр и ты – две ипостаси света.
Ты честь отцов и свой великий дар
Пронес по жизни бережно и свято.
И. Гуржибекова
Хугаев-режиссер – полководец, который готовит масштабное наступление.
Н. Саламов
Можно прожить долгую жизнь в искусстве и не вспыхнуть звездой. А можно поставить только два спектакля, таких, как «Сармат и его сыновья» и «На дне», и навсегда остаться в истории культуры.
Р. Бекоева
Мысли вслух…
Часто думаю о назначении театра. Не споря со всеми классическими философскими определениями, думаю, что человека просто тянет в этот волшебный дом. Желание пережить еще что-то, что за гранью нашей очень короткой человеческой жизни.

Есть пределы границы – рождение и кончина. А каждый ли может встретить в жизни счастье, любовь, потрясение? Но именно в повседневной обыденности рассыпаны блестки театра, его сюжеты, его герои. В них влюбляются, поклоняются, о них мечтают…
А мы, создатели спектакля? Как перестраивается наша обыденная жизнь? Мы попадаем в ритм и ощущение образа… и помимо логики нашей личной жизни включается подсознание и вдруг подсказывает совершенно неожиданно и жест, и чувство, и образ… Мне часто подсказывает даже во сне… После репетиции я долго не могу отключиться от того, что только что видел, слышал, анализировал, развивал… Повторяю про себя текст, не слышу и не вижу вокруг себя ничего. Даже ложку проношу мимо рта… Что это за виртуальное состояние?

Спектакль «На дне». Б. Ватаев – Лука, К. Сланов – Корастылев. Режиссер – Г. Хугаев.
…Искренность и красота – смысл искусства… Сейчас на сцену часто приходит анархия, вседозволенность, которые принимаются за новацию. Модернистские приемы – как основа режиссуры – «быть ни на кого не похожим»… Искажение пьесы, смысла ради формализма. Это повышает любопытства толпы, понижает вкусы зрителя, просто разрушает их.
…Человечность – не абсурдная форма, вымученная и рассудочная. Очень люблю паузы, которые рождают и слова, и действие. А вообще каждая постановка – это открытие и для себя, и для актера. Когда это случается, это такая радость, она не мгновенная, ее переживаешь долго. Вот и репетиция закончилась, а в тебе живет какая-то победа…
… «Когда уходит герой, на сцену выходит клоун!» (Гейне). Как верно! Где герой сегодня? Кто он? ... Спады и возрождение – это естественный ход любого искусства. Но общая тенденция – движение вверх всегда впереди маячат недосягаемые вершины…
Слово о Тхапсаеве
… Первое свое слово со сцены он произнес в сарае своего соседа, где местные ребята показывали одноактную пьесу. Там он почувствовал всю прелесть лицедейства, там его внутренний голос подсказал ему, что он обречен на это, рожден для театра…
… В. Тхапсаева редко можно было видеть в центре актерской компании, рассказывающего анекдот или смешную байку… Он никогда не участвовал в театральной суете, группировках, дрязгах, конфликтах, хотя его часто провоцировали на это. Но природная совестливость и чистота спасали его от этой бездны и грязи. Никогда не стремился к лидерству житейскому, бытовому, но зато был лидером на сцене, и там у него хватало и страсти, и мужества, и твердости до конца отстаивать свою человеческую суть, свою позицию. Проживая ту или иную трагическую роль, он отстаивал себя – человека по-детски добросердечного, чистого, доброго и беспомощного перед коварством и кознями…
Роль Отелло – подарок судьбы Тхапсаеву. В этом внешне тихом, скромном актере открылись и разыгрались такие страсти, такие человеческие переживания, такие глубинные эмоциональные пласты, что его мир ошеломил не только своих коллег и местного зрителя, но и крупнейших шекспироведов страны…

В. Тхапсаев - Отелло
…Однажды на спектакль «Отелло» приехала на автобусе-драндулете большая группа зрителей. Приехала из дальнего селения, и в предвкушении праздника шумно высаживалась из автобуса. Мой взгляд выхватил из толпы фигуру одного старика. Он был высок и хрупко тонок, высохший до прозрачности. Осторожно переставляя ноги, опираясь на палку, он добрался до лестницы, ведущей в вестибюль, и остановился перед этим препятствием. Я невольно подошел к нему, помог преодолеть преграду. И когда мы переступили порог нашего театрального храма, я, может быть, не совсем тактично спросил, не рискованно ли ему было проделать столь утомительную дорогу, чтобы попасть на спектакль. Он помолчал немного и сказал:
- Я, видимо, уже близок к переходу туда, в другой мир, - он показал рукой вверх. – Что я скажу тем, кто оказался там раньше меня, если они меня спросят, видел ли я Бало Тхапсаева? Как я выйду из положения? Что отвечу? А тут представилась такая удача, вот я и двинулся в путь.
Закончился спектакль, и я снова увидел моего собеседника. Он сидел, покачиваясь на скамейке, в каком-то недоумении. Я подошел и спросил:
- Понравился Вам спектакль?
- Ой-е-ей! – услышал я в ответ. – Такой красивый, отважный и благородный мужчина и так некрасиво закончил свою жизнь. Разве пристойно осетину душить женщину? Если она нарушила верность браку, он должен был вернуть Дездемону фамилии, из которой он взял ее, вернуть в отчий дом! Ах, как некрасиво! – опять опечалился мой собеседник.
Я пытался убедить его, что подобную развязку придумал великий Шекспир, но… старик был неумолим.
- Наш великий Бало не должен был так поступать!
Разговор был исчерпан…
… И вот тогда, может быть впервые, я задумался о возможностях совместимости классических произведений с национальной этикой. Кто прав – Шекспир или старик? Как соединить наш национальный нравственный закон с поступком Отелло?..
***
Я как режиссер – один из неисправимых поклонников Шекспира. Меня очень привлекает жизненность его произведений и его театральность, стремительность и непрерывность действия…
Суть трагедий Шекспира, в чем она? В первую очередь, в беззащитности, в уязвимости и одиночестве человека перед серым, многоликим и беспощадно-жестоким злом. Человек-герой, в самом и высоконравственном смысле, чистый душой и помыслом «протыкается соломинкой пигмея». Как Шекспир умеет раскрывать богатство и противоречия человеческой натуры, борьбу между совестью и поступком!
Эфрос А. Профили : Очерки о русских художниках / Абрам Эфрос. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 320 с. : ил.
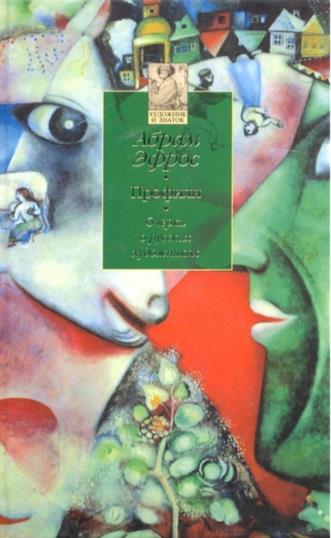
Читателю предстоит со мной пройти как бы по вернисажу большой выставки. Я люблю это медлительное хождение из зала в зал, вдоль стен, с которых глядят полотна, и мимо художников, которые смотрят на них и на нас. Празднично, торжественно, немного глупо; чувствуешь в себе разом влюбленность и злость; воздух насыщен атомами признаний и ссор; вещи и люди живут одной жизнью; мастер, выставивший произведение, становится таким же экспонатом, как вещь, которую он сделал.
Абрам Эфрос.
Октябрь 1929 г.
Профили
Отрывки из книги
Серов

В. Серов. Автопортрет
Знаменитый серовский портрет 1907 года: молодая дама в будуаре — ткани, перья, меха, зеркала, длинный строй флаконов и безделок, и среди всего этого, прорезывая картину тонким очерком, стоит объединяющим символом юности, красоты и довольства женская фигура.

В. Серов. Портрет Г. Л. Гиршман
В сердечном веселии мы, зрители, путешествуем по нарядному портрету, скользим от банта к банту, от драгоценности к драгоценности, от флакона к флакону, сбегаем по зеркалу, в котором отражается прекрасная дама, и вдруг: в углу, внизу, едва заметное сквозь муть стекла, нам навстречу встает чье-то напряженное, рассеченное на лбу мучительной складкой мужское лицо. Узнаем: Серов! Но какой неожиданный, необычайный автопортрет — Серов за работой, Серов, придавленный своим искусством, Серов изнемогший.
Его умное мастерство не знало случайностей. Больше, чем кто-либо из художников, он мог бы дать отчет в назначении каждого приема и смысле любой околичности. Это — насквозь сознательное искусство. Здесь царство мозга. И когда за парадной дамой парадного будуара мы внезапно встречаем, словно бы случайно отраженную, складку серовского лба, мы понимаем, что этим тончайшим приемом контраста Серов тому из нас, кто будет достаточно внимателен, чтобы за беззаботной моделью разглядеть его, художника, приоткрывает тягость своего творчества…
…Он прикован к своему искусству, как горбун к горбу. Он вечно ощущает его, разглядывает, обдумывает, расценивает. Это — постоянная тяжба с собою, с тем, кого он изображает, со своим мастерством.

В. Серов. Ифигения в Тавриде
…Серов, одновременно, сдержал все обещания юности — и не выполнил ни одного… Он родился сыном своего времени — и вырос его пасынком. Он ни во что не верил, но кипел в пустом действии. Как лермонтовский эпигон, он случайно любил и ненавидел. Он был публицистом без цели, экспериментатором — от случая, разносторонним — от безразличия, мастером — от повторений. Он был первым декадентом русского искусства. — Нет, надо сказать иначе: он был первой жертвой русского декаданса, самой большой и самой неправильной. Если бы истории можно было предъявлять счет за неправильные потери, я думаю, что наше поколение должно было бы начать его Серовым.

В. Серов. Портрет Иды Рубинштейн
Шагал

М. Шагал. "Автопортрет с семью пальцами"
Как сам Шагал, так трудно его искусство. Чтобы его полюбить, надо к нему приблизиться, а чтобы приблизиться, нужно пройти медленный и настойчивый искус проникновения сквозь его твердую оболочку. Потому что первый взгляд беспомощно путается в противоречиях и диковинах шагаловского искусства.
…Что Шагал очень талантлив — эта сторона видна сразу; но зачем он делает все эти странности? Отчего этот чудесно написанный еврейский старец — зеленый? А у другого — красные и зеленые руки? У третьего на голове стоит совершенно такой же маленький еврейчик, лишь повернувшийся в другую сторону? У лошади виден в брюхе нерожденный жеребенок, а под копытами торчат две людские фигуры? У старухи отскочила голова и мчится ввысь, а безголовое тело стремительно спускается с высоты к корове, стоящей на крыше дома? А у девушки с букетом — к губам приник юноша, перекинутый в воздухе, через ее голову, словно кошка, подброшенная вверх? У вола — мужской сюртук и человеческие руки, и он сидит, раздумчиво облокотившись, меж двух свисающих с его плеч голых ног, принадлежащих, вероятно, той, в платке, бабьей голове, что, затылком вниз, плюет ему в рот? У человека, смотрящего сквозь окно на Париж, голова Януса — с лицом вперед и лицом назад, — и кошка, с девичьим обликом, глядит с подоконника на двух людей, лежащих, затылками друг к другу, возле Эйфелевой башни и ростом равных покосившимся многоэтажным домам окрест?
Что это — болезнь или озорство, то особенное эстетическое озорство молодости, художественное “рапенство”, которым начинали свой творческий путь так много больших художников?

М. Шагал. Автопортрет с часами перед распятием
…Шагал — бытовик, но и Шагал — визионер; Шагал — рассказчик, но и Шагал — философ; русский еврей — хасид, но и выученик французского модернизма; но и, наконец, вообще некий космополитический фантаст, несущийся, как колдун на помеле, над земным шаром и в стремительном полете увлекающий вослед себе множество разных частиц множества разных жизней, роем оседающих на его полотна, когда наступают часы раздумий и творчества и пластически претворяется в образы и краски текучая и вихреная стихия шагаловских видений.

М. Шагал. День рождения

М. Шагал. Невеста с веером
Альтман

Н. Альтман. Автопортрет
Альтман появился среди нас года за два до мировой войны. Он появился бесшумно и уверенно. Однажды художник и художественники заметили, что их число стало на одну единицу больше, чем прежде… Альтман вошел в чужое общество, как к себе домой, и сразу стал существовать в качестве равноправного сочлена.
Он сделал это с такой безукоризненной вескостью, что все инстинктивно подвинулись и дали ему место. Казалось, каждый был уверен, что все остальные, кроме него, хорошо знают вошедшего, и он, незнающий, пожалуй, даже виноват в том, что его не знает…
… Магия, которой был наполнен воздух вокруг Альтмана, делала правдоподобным все неправдоподобное.
Благодаря ей Альтман, как герой сказок, мог очутиться прямо в середине жизненной карьеры и продолжать путь, которого он никогда не начинал. Альтман сразу занял место в виднейших группировках; Альтман сразу стал членом влиятельнейших кружков; Альтман сразу попал в поле зрения руководящей прессы; Альтман сразу приобщился к крупнейшим кошелькам художественной биржи.
…Альтман — математик искусства, а не поэт. Если у него есть вдохновение, это — вдохновение вычисления, а не одержимости. «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата…» — но этой пушкинской мерки к нему никак не приложишь. Альтман удручающе умен, или радующе умен, смотря по вкусам, — он умен всегда. Точно так же он удручающе удачлив или радующе удачлив, — но всегда удачлив.
…Он — действительно левый, совсем левый, конструктор от живописи, инженер от искусства, — строитель современнейшего склада, утонченный применитель утонченных форм, художник с сертификатом, подписанным самыми крайними, роковыми людьми левых течений, — соратник Пикассо и Татлина, Шагала и Малевича, Боччони и Архипенко.

Н. Альтман. Материальный подбор
И тем не менее это — мундир, это — декорация; это — деревья, из-за которых можно не заметить леса, а лес Альтмана — старый лес, привычный лес, исхоженный лес: живопись как живопись и скульптура как скульптура, какая была, какая есть и какая будет…
Портреты Альтмана суть обычные портреты, его пейзажи суть пейзажи, натюрморты суть натюрморты; они всегда хранят в себе старое, основное, выверенное свойство каждого такого рода искусства, и если уклоняются от него, то лишь настолько, чтобы не повредить своего родового признака: портрет Альтмана всегда похож на портретируемого, пейзаж говорит о лике природы, натюрморт верен облику предмета; но все это хитро, вкусно, умно, расчетливо приправлено сдвигом, разрывом, сложной фактурой, многопланностью, как кушанье приправляется пряностями.

Н. Альтман. Портрет А. Ахматовой
Гудиев Г.Г. Вершины [Текст] : очерки / Герман Гудиев. – Владикавказ : Ир, 2003. – 228 с.

Герман ГУДИЕВ
Вершины
Предисловие
Мыслящего интересует все многообразие Земли и Вселенной, но в абсолютной мере человека волнует и вдохновляет феномен Человека!..
Очерки, которые предлагаю вашему вниманию, — труд почти всей моей жизни, они о людях, достойных восхищения, и — никогда — забвения. Рамой ограничен холст, но не его содержание...
Попытка воссоздать в данном случае посредством слова даже мельчайший скол жизни человека, тем более личности, часто незаурядной, — проблематично для автора и, как правило, сомнительно в своей непогрешимости для персонажа произведения.
Не ошибаются только боги. Поэтому не снимаю с себя ответственности за погрешности, а, возможно, и ошибки в своей работе, и в то же время хочу заверить, что, подобно переводчику, старался в меру своих скромных способностей, воссоздавая, — не разрушать, тем более не деформировать священный для меня оригинал, каким являлись люди, их жизни и судьбы…
Автор
МАХАРБЕК ТУГАНОВ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
http://artgallery.darial-online.ru/tuganov/gudiev.shtml
Я не был знаком с М. Тугановым и словно всегда его знал... Подобное и с его работами, – словно видел их до собственного рождения... Увидев его автопортрет, понял, что этот человек украсил бы собой не только любое общество, но и пустыню, ибо и в пустыне, без свидетелей, он не совершил бы ничего, не достойного Человека. Автопортреты пишут, чтобы поцеловать себя. Туганов с автопортрета целует нас – это его сдержанно-вдохновенный взгляд, как у верующего перед алтарем...
Я хорошо знал его сына Энвера. Говорю «хорошо», хотя видел и
общался с ним коротко два раза, но этих минут было достаточно,
чтобы понять всю мощь древнего рода Тугановых на высоте, где ни
пищи, ни влаги, но простор и плечо ветра... Энвер умер в доме для
престарелых. Лорка как-то заметил, что мертвый испанец мертвее
любого мертвеца... Осетин, умирая даже во дворце падишаха, – беден.
Это наше проклятие, а, может, опыт и беззвучный смех над
богатством, как вожделенным наказанием свыше...

М.Туганов. Батрадз в борьбе с небом
Пунктуальные и добросовестные исследователи жизни личности «подметают» даты, вехи, были и небылицы, вещи и вещицы иногда чрезмерно, наивно полагая, что множат не знаменатель, а числитель... Что даст простое сложение там, где надо извлечь корень? Туганов учился в Германии. Ну и что? Владел языками. Похвально. Много работал. Почти не аргумент. Гений! Это очевидно. Любая биография по-своему интересна. Интересны детали биографии. Тона и полутона. Трещины и гладь. Да простят меня творцы монографий, биографий, мемуаров и прочей беллетристики, все это, пусть шумный и цветной, но базар. В нашем случае интересен феномен духовного вождя, который, как и Коста, «вернул нам лицо» в искусстве живописи...

М.Туганов. Нарты в гостях у семиглавых великанов
Когда из материнского лона рождается ребенок, наивные родители думают, что малыш плоть от плоти – их, не понимая, что генный код любого человека – родовой и берет начало от пещеры и огнива пращуров, а не от кушетки родильного дома... Так называемая «чистота» крови, не дистилляция, – наоборот, сложнейший замес, обладающий свойством нести в себе, в неизменном виде, главную, основную комбинацию замысла...

М.Туганов. Приглашение Бора на пир Донбеттыров
Творческая задача Махарбека Туганова как художника и в первую очередь как патриота, ученого и мыслителя, – буквально на ровном месте выстроить архетип своего народа, который, подобно древним грекам или римлянам, обладал уникальной культурой, ратным искусством, был велик числом, но разделил участь цивилизаций, переживших цикл возрождения, упадка и, в конце концов, краха, подобно гигантскому метеориту, сгоревшему дотла в плотных слоях атмосферы... Да, комета сгорела, но не дотла. Остались слабо светящиеся, еще теплые крупицы, и задача Туганова заключалась в том, чтобы подвиг, свершенный Коста в литературе, он, перехватив сверхзадачу, как священную эстафету, свершил в искусстве живописи. И он это сделал. Из пепла и праха последних свидетелей воссоздал мир – и материальный, и духовный – сотен тысяч скифо-сарматов, которые в тигле истории и в его гениальном сознании, кипя и затекая жила в жилу и струя в струю, превращались в аланов, осов. Подвиг Туганова заключается в том, что в его работах, в каждом атоме, штрихе, мазке, черте и черточках, в пропорциях, темпо-ритме, цвете, овале и угле, тени и вспышке, фактуре холста, в ровном и мощном дыхании каждого полотна и даже карандашного наброска – генетический кубик, звено, цепь, в которых закодирован образ и облик его народа: от уродливого горбуна до красавца, от дурачка до мудреца, от скупца до рыцаря щедрости...

М.Туганов. Айсана похищает Бурдзабах
Этот гумус протек сквозь сито миропонимания и обрел формосодержание, адекватное идее Создателя, ибо нет у Туганова ни одного эскиза или законченного полотна, «запачканного» приблизительностью вещей, архитектоники ТИПА как онтологической данности. Как бы не менялись условия существования, как бы они не деформировали нас, никакие мутации и потрясения не смогут отныне стереть с наших лиц печать оригинала... У Туганова работ не много и не мало – ровно столько, сколько было нужно для решения задачи. Его Курдалагон, Урузмаг, Хамыц, Батрадз, Сослан, Сырдон, Мукара... Его Кубады... Его Шатана и мать сирот – художественный аналог таблицы Менделеева с весом удельным и атомарным, с валентностью и порядком, в котором свойства элементов строго соответствуют их качественному содержанию...

М.Туганов. Тренировка нартских женщин
Туганов подарил духовный ключ к хромосомному замку осетин – единственный и безотказный. Врезавшись, как Сослан на стреле, в эпос, он черпал из него, чтобы воссоздать корневые типажи, корневые характеры, становой хребет народа скальной твердости! Воедино, в кулак, он собрал свой народ в «Пире нартов». Над чередой пирующих танцует на ковше Батрадз – воин и герой, но если вглядеться в его лицо, которое даже под пристальным взглядом «гуляет», как плазма в магнитной буре, начинаешь понимать, что это лицо и есть тот магический тотем, в котором плещется весь народ Осетии – с Первого Дня Сотворения до бесконечности...

М.Туганов. Пир нартов
Гаспаров М.Л. Записи и выписки / М.Л. Гаспаров. — М. : Фортуна ЭЛ, 2016. - 352 с.

Наша справка:
Михаил Леонович Гаспаров (1935-2005) — крупнейший отечественный филолог, литературовед, переводчик, автор многочисленных трудов по античной литературе, поэтике и стиховедению, широко известных и у нас в стране, и за рубежом.
Предлагаемая книга — это третье издание его единственного ненаучного произведения "Записи и выписки". Она представляет собой причудливый сплав мемуаров, дневниковых записей, писем, публицистических статей, воспоминаний о своих учителях, друзьях и коллегах: легендарном античнике С. И. Соболевском, о Ф. А. Петровском и М. Е. Грабарь-Пассек, писателях Сергее Боброве, Корнее Чуковском, академике С. С. Аверинцеве, поэте Иосифе Бродском и других замечательных людях, выдающихся представителях российской культуры XX века.

Записи и выписки
ВРАТА УЧЕНОСТИ
Первый шедевр в вашей жизни? Что
это было? Кто сказал, что это шедевр?
Или это собственное — сразу —
восприятие? Или титул присвоен
позже?
Из анкеты
Вначале было имя. Взрослые разговаривали и упоминали Евгения Онегина, Пиковую Даму, Анну Каренину, Чарли Чаплина, причем ясно было, что это были не их знакомые, а персонажи из другого, тайного их мира, для детей закрытого. От вопросов они отмахивались — некогда и слишком сложно. Чтобы проникнуть в их мир, нужно было запомнить и разгадать имена. Имя Пушкина не произносилось — оно как бы самоподразумевалось. Когда я в пять лет спросил бабушку: «А кто такой Пушкин?», она изумилась: «Как, ты не знаешь Пушкина?» Через месяц я твердил сказки Пушкина наизусть вслух с утра до вечера. А через год началась война. Случилось чудо: в эвакуационном поселке, где вовсе нечего было читать, оказался старый растрепанный однотомник Пушкина. Стихи были непонятны, но завораживающи. Я ходил по бурьянным улицам и пел: «Скажите: кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» Что это значило, было неважно. Потом я много страдал от этой привычки: из-за звуков ускользал смысл. («И слово только шум, когда фонетика — служанка серафима»). Уже подростком, уже много лет зная наизусть тютчевское «как демоны глухонемые, ведут беседу меж собой», я вдруг понял зрительный смысл этой картины — ночные вспышки безмолвных красных зарниц. Это было почти потрясение.
 Пикассо
Пикассо
Мне повезло: в том же дошкольном возрасте мне нанедолго попался в руки другой том Пушкина, из полного собрания, с недописанными набросками: «[Колокольчик небывалый У меня звенит в ушах,] На заре-------- алой [Серебрится] снежный прах...» Я увидел, что стихи не рождаются такими законченно-мраморными, какими кажутся, что они сочиняются постепенно и с трудом. Наверное, поэтому я стал филологом. Если бы мне случилось хоть раз увидеть, как художник работает над картиной или рисунком и в какой последовательности из ничего возникает что-то, может быть, я лучше понимал бы искусство.
Я рос в доме, где не было даже "Анны Карениной". Тютчева, Фета, Блока я читал по книгам, взятым у знакомых, почти как урок: скажем, по полчаса утром перед школой. Они не давались, но я продолжал искать в них те тайные слова, которые делали их паролем взрослого мира. У знакомых же оказалась Большая советская энциклопедия, первое издание с красными корешками. Там были картинки-репродукции, но странные: угловатые, грязноватые, страшноватые, не похожие на картинки из детских книжек. Взрослые ничего сказать не могли: видно, это был пропуск в какой-то следующий, еще более узкий круг их мира. Статьи «Декадентство» и «Символизм» тоже были непонятны, хотя имен там было много. Некоторые удавалось выследить. Четыре потрясения я помню на этом пути, четыре ощущения «неужели это возможно?!» — Брюсов, Белый (книжечка 1940 г. с главой из «Первого свидания»), Северянин, Хлебников. Брюсова я до сих пор люблю вопреки моде, Северянина не люблю, Хлебников не вмещается ни в какую любовь, — но это уже не важно.
Моя мать прирабатывала перепечаткой на машинке. Для кого-то она, вместо технических рукописей, перепечатывала Цветаеву — оригинал долго лежал у нее на столе. (Как я теперь понимаю, это был список невышедшего сборника 1940 г — бережно переплетенный в ужасающий синий шелк с вышитыми цветочками, как на диванных подушках.) Я его читал и перечитывал: сперва с удивлением и неприязнью, потом все больше привыкая и втягиваясь. Кто такая была Цветаева, я не знал, да и мать, быть может, не знала. Только теперь я понимаю, какая это была удача — прочитать стихи Цветаевой, а потом Мандельштама (по рыжей книжечке 1928 г.), ничего не зная об авторах. Теперешние читатели сперва получают миф о Цветаевой, а потом уже, как необязательное приложение, ее стихи.
 Пикассо
Пикассо
"Вратами своей учености» Ломоносов называл грамматику Смотрицкого, арифметику Магницкого и псалтирь Симеона Полоцкого. Врата нашей детской учености были разными и порой странными: кроссворды (драматург из 8 букв?), викторины с ответами (Фадеев — это «Разгром», а Федин — «Города и годы»), игра «Квартет», в которой нужно было набрать по четыре карточки с названиями четырех произведений одного автора. Для Достоевского это были «Идиот», «Бесы», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные». Я так и остался при тайном чувстве, что это — главное, а «Братья Карамазовы» — так, с боку припеку. Мне повезло: школьные учебники истории я прочитал еще до школы с ее обязательным отвращением. В разделах мелким шрифтом там шла культура, иногда даже с портретами: Эсхил-Софокл-Еврипид, Вергилий-Гораций-Овидий. Данте-Петрарка-Боккаччо, Леонардо-Микельанджело-Рафаэль («воплотил чарующую красоту материнства», было сказано, чтобы не называть Мадонну), Рабле-Шекспир-Сервантес, Корнель-Расин-Мольер, Ли Бо и Ду Фу. Я запоминал эти имена как заклинания, через них шли пути к миру взрослых. Может быть, я не рвался бы так в этот мир, если бы мог довольствоваться тем, что сейчас называется детская и подростковая субкультура; но по разным причинам я чувствовал себя в ней неуютно.
 Пикассо
Пикассо
Мы жили в Замоскворечье; Третьяковка, только что из эвакуации, была в четверти часа ходьбы. Я ходил туда каждое воскресенье, знал имена, названия и залы наизусть. Но смотреть картины никто меня не учил — только школьные учебники с заданиями «расскажите, что вы видите на этой картинке». Теперь я понимаю, что даже от таких заданий можно было вести ученика к описательскому искусству Дидро и Фромантена. Потом, взрослым, теряясь в Эрмитаже, я сам давал себе задания в духе «Салонов» Дидро, но было поздно. Краски я воспринимал плохо, у меня сдвинуто цветовое зрение. Улавливать композицию было легче. В книгах о художниках среди расплывчатых эмоциональных фраз попадались беглые, но понятные мне слова, как построена картина, как сбегаются диагонали в композиционный центр или как передается движение. Я выклевывал эти зерна и старался свести обрывки узнанного во что-то связное. Иногда это удавалось. У меня уже были дети, у знакомых были дети, подруга-учительница привозила из провинции свой класс, я водил их по Третьяковке и Музею изобразительных искусств, стараясь говорить о том, что только что перестало быть непонятным мне самому. Меня останавливали: «Вы не экскурсовод!», я отвечал: «Это я со своими знакомыми». Кто-то запоздавший сказал, что старушка-сторожиха в суриковском зале сказала: «Хорошо говорил», я вспоминаю об этом с гордостью. Теперь я забыл все, что знал.
 Пикассо
Пикассо
Старый русский футурист Сергей Бобров, у которого я бывал десять лет, чтобы просветить меня, листал цветные альбомы швейцарской печати, время от времени восклицая «а как выписана эта деталька!» или «какой кусок живописи!» (Эти слова меня всегда пугали, они как бы подразумевали то тайное знание живописи, до которого мне так далеко.) Из его бесед невозможно было вынести никаких зерен в амбар памяти, но когда я в позднем метро возвращался от него домой, то на все лица смотрел как будто промытыми глазами. С музыкой было хуже. Я патологически глух, в конце музыкальной фразы не помню ее начала, ни одной вещи не могу отличить от другой. (Кроме «Болеро» Равеля.) Только из такого состояния я мог задать Боброву отчаянный вопрос а в чем, собственно, разница между Моцартом и Бетховеном? Бобров, подумав, сказал: «Помните, у Мольера мещанину во дворянстве объясняют, как писать любовные письма? Ну так вот, Моцарт пишет «Ваши прекрасные глазки заставляют меня умирать от любви; от любви прекрасные ваши глазки умирать меня заставляют, заставляют глазки ваши прекрасные...» и т.д. А Бетховен пишет «Ваши прекрасные глазки заставляют меня умирать от любви — той любви, которая охватывает все мое существо, — охватывает так, что...» и т.д.»
 Пикассо
Пикассо
Я подумал: если бы мне это сказали в семь лет, а не в двадцать семь, то мои отношения с музыкой, может быть, сложились бы иначе. Впрочем, когда я рассказал этот случай одной музыковедше, она сказала: «Может быть, лучше так: Моцарт едет вдаль в карете и посматривает то направо, то налево, а Бетховен уже приехал и разом окидывает взглядом весь минованный путь». Я об этом к тому, что даже со слепыми и глухими можно говорить о красках и о звуках, нужно только найти язык.
Когда мне было десять лет и только что кончилась война, мать разбудила меня ночью и сказала: «Слушай: это по радио концерт Вилли Ферреро, «Полет валькирий» Вагнера, всю войну у нас его не исполняли». Я ничего не запомнил, но, наверное, будить меня ночью тоже стоило бы чаще. Книги о композиторах были еще более расплывчато-эмоциональны, чем книги о живописцах. Я пытался втащить себя в музыку без путеводителя и без руководителя: два сезона брал по два абонемента на концерты, слушал лучших исполнителей той сорокалетней давности. Но только один раз я почувствовал что-то, чего не чувствовал ни до, ни после: как будто что-то мгновенно просияло в сознании, и словам не поддается. Играл Рихтер, поэтому никаких выводов отсюда не следует. Слово, живопись в репродукциях, музыку на пластинках — их можно учиться воспринимать наедине с собой. Театр — нельзя. Я застенчив, в театральной толпе, блеске, шуме мне тяжело. Первым спектаклем, который я видел, были «Проделки Скапена»: ярко, гулко, вихрем, взлетом, стремительно, блистательно (у артистки фамилия Гиацинтова, разве такие в жизни бывают?) — я настолько чувствовал, что мне здесь не место, что, вернувшись домой, забился в угол и плакал весь вечер.
Я так и не свыкся с театром: когда я видел незнакомую пьесу, то не поспевал понимать действие, когда знакомую — оказывалось, что я заранее так ясно представляю ее себе внутренне, что мне трудно переключиться на то, что сделал режиссер. Потом меня спрашивали: «Почему вы не ходите в театры?» Я отвечал: «Быть театральным зрителем — это тоже профессия, и на нее мне не хватило сил». То же и кино: действие идет быстро, если за чем-нибудь не уследишь — уже нельзя перевернуть несколько страниц назад, чтобы поправить память. Мне жалко моей невосприимчивости: мы росли в те годы, когда на экранах сплошь шли трофейные фильмы из Германии с измененными названиями и без имен: бросовая продукция пополам с золотым фондом. Если бы было кому подсказать, что есть что, можно было бы многому научиться. Но подсказать было некому. Был фильм «Сети шпионажа*, из которого я на всю жизнь запомнил несколько случайных кадров — оказалось, что это «Гибралтар* самого Штернберга. И был югославский фильм «Н-8» (я даже не знаю, «аш-восемь» или «эн-восемь»), ни в каких известных мне книжках не упоминавшийся, но почему-то врезавшийся в память так, что хочется сказать ему спасибо.
Чтобы стать профессиональным кинозрителем, нужно просматривать фильмы по нескольку раз (а на это не у всякого есть время) или иметь в руках программку: сюжет такой-то, эпизоды такие-то, обратите внимание на такие-то кадры и приемы. Когда кино начиналось, это было делом обычным, а теперь против этого, наверное, будут протестовать так же, как протестуют против десятистраничных дайджестов мировой литературы. Я читал книги по кино, старался смотреть со смыслом: следить за сменой и длительностью кадров, за направлением движения. Это не приносило удовольствия. И сейчас, когда я сижу перед Гринуэем или Фассбиндером в телевизоре, я вижу просто смену картинок, где за любой одной может последовать любая другая, и героиня с равной вероятностью может вот сейчас и поцеловать героя, и ударить его. Никому не пожелаю такого удовольствия, но для меня оно не меньше, чем для гоголевского Петрушки.
По музеям, по книгам с репродукциями, по кино я шел с торопливой оглядкой: сейчас я не приготовлен, чтобы воспринять, чтобы понять эту вещь, — вот потом, когда будут время и возможности, то непременно... А так как на все вещи заведомо не хватит времени и возможностей, то сейчас главное — отделить большое от малого (в музеях часто — буквально, по формату), важное от неважного, знаменитое от безвестного, и реже всего — понравившееся от непонравившегося. (Потому что чего стоит мое невежественное "понравилось"?) Разложить по полочкам, иерархизировать, структурировать, как говорят мои товарищи. А там — вникнуть, когда время будет. Что считается (как мне, по счастью, подсказали) знаменитым и общепризнанным, то я буду одолевать, не жалея усилий: "Эта книга тебе не нравится? а нравишься ли ты сам этой книге? Это важнее". И через несколько лет перечитывания (по каждому стиховедческому поводу) мне, наконец, понравится скучный Фет, а через несколько страниц внимательного французского вчитывания (без начала и конца, тоже по лингвистическому поводу) понравится хаотический Бальзак, а когда-то в невидимом будущем, может быть, понравится и удушающий Пруст.
 Пикассо
Пикассо
Я уже филолог, словесность — моя специальность. И тут — парадокс! — я теряю право на всякое «нравится», на всякий голос вкуса. Я могу и должен описать, как построена вот эта поэма, из каких тонких элементов и каким сложным образом она организована, но мое личное отношение к ней я должен исключить. «Если для вас Эсхил дороже Манилия, вы — не настоящий филолог», говорил А.Э. Хаусмен, английский поэт и сам филолог, больше всего любивший Эсхила, но жизнь посвятивший именно всеми забытому Манилию. Если у меня перехватывает горло там, где у Овидия Икар начинает падать в море, то я должен сказать: вот они легко летят над морем и островами, и об этом сказано легкой и плавной стихотворной строчкой, а вот следующая, через запятую, «...но вот мальчик начинает чересчур радоваться удачному полету», и она уже полна ритмических перебоев — как в авиамоторе, — предвещающих близкую катастрофу.
Если вы талантливый педагог, то ваши слушатели почувствуют то же, что и вы. Это трудно: академик Виноградов вспоминал, как профессор Зелинский, лучший и красноречивейший русский античник начала века, плакал перед студентами оттого, что не мог найти слов описать те особенности стиля Горация, которые трогали его сердце. А ограничиться словами «это хорошо», «это прекрасно», «это гениально» он, как профессионал, не имел права. Как специалист я не имею права на восторг, как человек — конечно, имею: нужно только твердо знать, от чьего лица ты сейчас говоришь. Такова справедливость. Мы выбираем себе специальность и в этой специальности поверяем алгеброй гармонию: ботаник объясняет строение цветка, геолог — горного кряжа, филолог — стихотворения, и никто из них не скажет о своем предмете «красиво», хотя каждый это чувствует (а если анализ мешает ему это чувствовать, то лучше ему выбрать другую специальность). За это ботаник получает право спокойно и бездумно сказать «красиво* о горном кряже, а геолог — о стихотворении, а филолог о картине, здании, спектакле или фильме. «Бездумно», то есть полагаясь на свой вкус. Некоторые думают, что вкус — это дар природы, одинаков у всех, а кто чувствует иначе, тот заблуждается. Другие думают, что вкус нам подсказывает (если хотите — навязывает) общество, а какими тонкими способами — мы и сами обычно не сознаем. Я тоже так считаю; поэтому я и решился рассказать эти воспоминания о том, как складывался мой вкус и мое безвкусие.
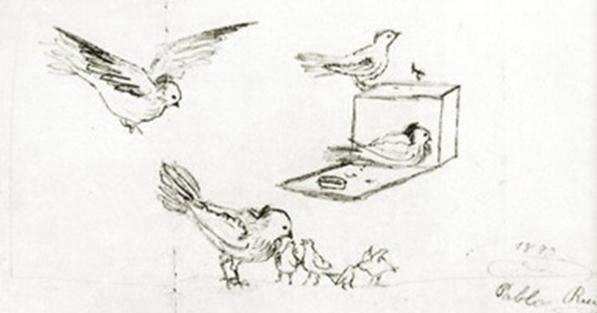 Пикассо
Пикассо
Гуэрра Т. Тонино. Семь тетрадей жизни / Тонино Гуэрра. – М.: Зебра Е, 2005. – 464 с.: ил.
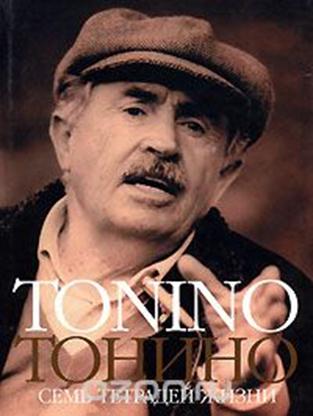
***
Мы предлагаем вашему вниманию первую иллюстрированную книгу стихов и прозы Тонино Гуэрры в переводах Лоры Гуэрра.
В России Гуэрра известен как киносценарист и участник того великого художественного открытия, которое сделал итальянский кинематограф 60-80-х годов, новой художественной вехи в мировой культуре.
Сегодня смотришь это кино… как живопись ренессанса. Каждый кадр – картина, шедевр, каждая реплика в точку. Все экономно, жестко, вся страсть внутри. Документ или сон?
Такова же проза и стихи, и живопись и фонтаны Тонино Гуэрры...
Он Улисс, странствующий среди островов своей памяти. Только память его бесконечно расширена, ибо это память поэта. В этом потоке образов-метафор все разом и рядом: запах пригоревших оладьев, шум сухой листвы, и муравей в лабиринте в лабиринте мирового ковра.
Вся его литература – монтаж образов, ассоциаций, скрепленных ритмом, и она ближе к Востоку, Японии. Нежели европейской традиции…
Читатель! Эта книга не для быстрого чтения. Читать ее надо не спеша, малыми дозами, вкушая как деликатес. Любой текст Тонино – не сплошной. Цельность его другая – мозаичная. Картина целого складывается из малых драгоценных смальт: мира событий и воображения, дня сегодняшнего и бесконечности истории.
Паола Волкова
(Из вступительной статьи)
Тонино. Семь тетрадей жизни.
(Отрывки из книги)
***
Я лишь один из тех, кто пытается помочь другим скрасить одиночество, обозначить пути, ведущие к поэзии жизни. Люблю дневники, исповеди и слова, которые рассказывают светлячки, появляясь в небе нашего бытия.
***
…Идет снег, и у меня белеют мысли. Хотелось бы больше ничего не делать. Вот - вот ворвутся утомительные новогодние праздники. Хорошо бы провести их с простыми людьми, которые сохранили во взгляде скромность. С теми, чей хлеб пополам со слезами, кто умеет говорить с животными. Душевный комфорт и определенная ясность приходят ко мне случайно, от необъяснимых примет и предчувствий. Прозрения, полные тайны. Они далеки от нашего высокомерного рационализма. Важно согнуться, чтобы слушать деревья или исповедь памяти неискушенных людей. Чаще всего я плаваю внутри «ночного равновесия нашего бытия», как великолепно сказал кто-то однажды… Значит, можно верить только тому, что вне правил логики. Мне хорошо на закате, при последних лучах уходящего солнца. Кажется, что я тоже часть этого света. Мне в нем просторно, как пролитой на полотно олифе или краске с палитры художника. Становишься легким как запахи трав, почти как в прежние времена, когда в час солнечного заката я был молодым и сильным…

***
Когда осенью падает первый лист, он производит оглушительный шум, потому что с ним падает целый год... Жить надо там, где слова способны превращаться в листья, раскачиваться на ветру или воровать краски облаков. За плечами наших бесед должны стоять изменчивые настроения времен года, отголоски пейзажей, где они происходят. Неправда, что слова неподвластны влиянию шумов и тишины, которые видели их рождение. Мы и говорим иначе, когда идет дождь или при солнце, льющем на язык…
***
…Меня утешило деревянное окно серого цвета, покрытое еле заметными остатками белой краски, которая осыпалась. За стеклом – маленький горшок с цветами, за спиной которого заштопанные кружева занавески. Это как цветной подарок тем, кто проходит мимо по улице, от людей, живущих в доме, которые ценят нежность в жизни и одаривают ею других.

***
…Это неправда, что слово имеет лишь тот смысл, которому нас научили. Слово – это прежде всего звук, производимый инструментом, которым и являемся мы. Отнимите весь смысл у слов и слушайте только звуки, которые слетают с наших губ. Двигаться, перемещаться, излишне жестикулировать – это и создает суету жизни. Увы, и сама мысль порождает движение, но ведь надо бы спросить себя при этом: куда идем? Оставайтесь неподвижными, пусть мир движется вокруг вас, пусть фрукты сами катятся по полу и по лестнице. Пусть все рождается ветром и перепадами тепла. Наша конечная цель лишь внутренняя неподвижность.

О неправильном
Нет ничего неправильнее совершенства и ничего слаще воздуха – этой, в общем-то легкой вещи вокруг головы, которая часто становится светлее, когда тебе широко улыбается женщина.
В моей мебели есть грация того, кто не владеет линией в совершенстве.

Ожидание
Он был так влюблён, что не выходил из дома и сидел у самой двери, чтобы сразу же обнять её, как только она позвонит в дверь и скажет, что тоже любит его. В голове звучал один вопрос:
«Ты меня любишь?»
Но она не позвонила, а он сделался старым. Однажды кто-то тихо постучался в его дверь, а он испугался и убежал, чтобы спрятаться за шкаф…
О ней
Чтобы поймать смеющееся сердце Лоры, я подарил ей клетку, в которой жили мои письма.
О России
Когда длинная зима, нужны сказки, чтобы согреться.
Старость
…До семидесяти лет я преклонялся перед грандиозными произведениями искусства, перед шедеврами, которые создало человечество. У меня было много сил для обожания… Сейчас меня очаровывают только естественные вещи, только то, что создано природой. Дождь или снег-это всегда спектакль. И ты уже не зритель, не обожатель. Ты часть вселенной.
Я узнал, что в старости можно испытывать большие наслаждения просто потому, что ты трогаешь глубину того, что видишь.
Однажды я объяснял разницу между двумя словами - смотреть и видеть. Молодость смотрит, а старость видит. Когда ты молод, ты ослеплен миром, ты видишь цвет, материал. Ты часто смотришь, но не видишь.
Недавно в Италии я ехал в машине и увидел одну вещь, которая меня поразила. Я попросил остановить машину и вышел. Это была простая чугунная скамейка. Она была заброшенной и покрытой мхом. Она была такой старой, что на нее уже никто не садился. Я увидел ее одиночество, я увидел стариков, которые раньше сидели на ней и смотрели на проезжающие машины. Эти старики уже давно умерли, и скамейка была одинока. Я сел на нее, чтобы разделить с ней одиночество.
Это одно из наслаждений старости - видеть…
***
…Ранимая израненная крепость,
Мой Петербург, крепись, крепчай, плыви…
***
Моя стена когда-то
Была покрыта шелковым плетеньем –
Сетями пауков.
***
Мой дом стоит так высоко,
Что слышен кашель Бога.
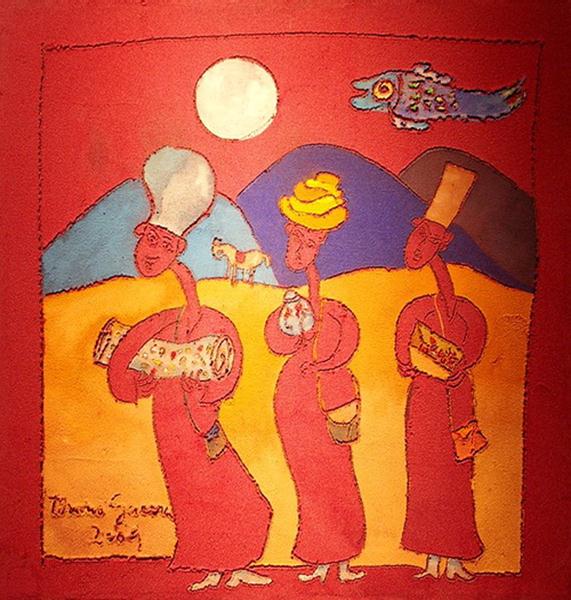
Цветы и гончарня : Письма Марины Цветаевой к Наталье Гончаровой, 1928-1932 ; Марина Цветаева. Наталья Гончарова : Жизнь и творчество. - М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006. – 184 с.
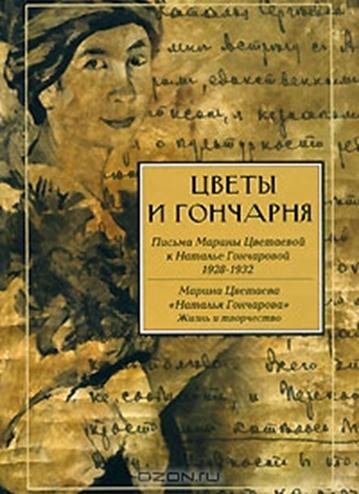
Наша справка:
Наталья Сергеевна Гончарова (1881—1962) вошла в русское искусство как "амазонка авангарда", новатор живописи, блестящий декоратор, живописец, график, театральный художник. Принадлежала к старинному дворянскому роду Гончаровых, приходилась двоюродной правнучкой жене А.С.Пушкина.
Цветаева познакомилась с Гончаровой в 1928 году. Некоторое время Гончарова занималась рисунком с Ариадной Эфрон. В 1930 году иллюстрировала поэму-сказку Цветаевой «Молодец».
 Н. Гончарова. Автопортрет
Н. Гончарова. Автопортрет
Наталья Гончарова. Жизнь и творчество
Эссе
(фрагменты)
Что такое человеческое творчество? Ответный удар, больше ничего. Вещь в меня ударяет, а я отвечаю, отдаряю. Либо вещь меня спрашивает, я отвечаю. Либо перед ответом вещи, ставлю вопрос. Всегда диалог, поединок, схватка, борьба, взаимодействие. Вещь задает загадку. Ну – синее, ну – чистое, ну – соленое, – в чем тайна? Под кистью – ответ. Ответ или поиски ответа, третье, новое, возникшее из море и я. Отраженный удар, а не вещь.
Отражать – повторять. Мы можем только отобразить. Думающие же, что отражают, повторяют, пишут с («ты шуми смирно, а я попишу»), только искажают до жуткой и мертвой неузнаваемости. Ибо, если ты хочешь дать это море, настоящее, синее, соленое, точь-в-точь, как есть, – предположим, удалась синева – где же соль? Удалась соль (!), где же шум? Тогда я уже буду требовать с тебя, как с Бога. Море – и все качества! Никакого моря не хочу дать, не могу дать. Не дать, а отгадать, что за солью, синью, шумом. Беззащитность перед ударом (дара). Единственное, что хочу дать, – вещи ударить в себя и, устояв, отдать. Воздать.
Дар отдачи. Благодарность.
 Н. Гончарова. Весна. Белые испанки
Н. Гончарова. Весна. Белые испанки
***
…В 1914 году (первая дата в моем живописании, единственная названная Гончаровой, явный рубеж) Гончарова впервые едет за границу. Везут с Ларионовым и Дягилевым пушкинско-гончаровско-римско-корсаковско-дягилевского «Золотого Петушка». Париж, помнишь? Но послушаем забывчивейшего из зрителей: победителя – саму Гончарову. «Декорации, танец, музыка, режиссура – все сошлось. Говорили, что – событие»... Если уж Гончарова, при ее небывалой беспамятности и скромности... Послушаем и одного из ее современников.
«Самый знаменитый из этих передовых художников – женщина: имя ее Наталья Гончарова. Она недавно выставила семьсот холстов, изображающих „свет“, и несколько панно в сорок метров поверхности. Так как у нее очень маленькая мастерская, она пишет кусками, по памяти, и всю вещь целиком видит впервые только на выставке. Гончаровой нынче кланяется вся московская и петербургская молодежь. Но самое любопытное – ей подражают не только как художнику, но и ей внешне. Это она ввела в моду рубашку-платье, черную с белым, синюю с рыжим. Но это еще ничто. Она нарисовала себе цветы на лице. И вскоре знать и богема выехали на санях – с лошадьми, домами, слонами – на щеках, на шее, на лбу. Когда я спросил у этой художницы, почему она предварительно покрыла себе лицо слоем ультрамарина, —
– Смягчить черты, – был ответ.
– Дягилев, Вы первый шутник на свете! – сказал С.
– Но я говорю простую правду. Каждый день можно встретить в Москве, на снегу, дам, у которых на лице вместо вуалеток скрещенные клинки или россыпь жемчугов. Что не мешает этой Гончаровой быть большим художником.
Метрдотель вносил крем из дичи с замороженным гарниром.
– Это ей я заказал декорации к «Золотому Петушку» Римского-Корсакова, которого даю этой весной в Опере, – прибавил Сергей Дягилев, отводя со лба завиток волос».
 Портрет Ларионова
Портрет Ларионова
Сделка с совестью
– Как, Гончарова, сама природа, – и...
– А дикари, только и делающие, не природа?
– Но Гончарова – не дикарь!
– И дикарь, и дичок. От дикаря в ней радость, от дичка робость. Радость, победившая робость, – вот личные цветы Гончаровой. Ведь можно и так сказать: Гончарова настолько любит цветы, что собственное лицо обратила в грунт. Грунт, грунтовка и, кажется, найдено: Гончарова сама себе холст!
 Беление льна. Из «Крестьянской серии»
Беление льна. Из «Крестьянской серии»
Если бы Гончарова просто красила себе щеки? мне стало бы скучно. Так – мне весело, как ей и всем тогда. – Пересол молодости! – Гончарова не морщины закрашивала, а... розы! Не красила, а изукрашала. Двадцать лет.
– Как вы себя чувствовали с изукрашенным лицом?
– По улицам слона водили... Сомнамбулой. Десять кинематографов трещат, толпа глядит, а я – сплю. Ведь это Ларионова идея была и, кажется, его же исполнение...
После Парижа едет на остров Олерон, где пишет морские Евангелия. Островок Олерон. Сосны, пески, снасти, коричневые паруса, крылатые головные уборы рыбачек. Морские Евангелия Гончаровой, без ведома и воли ее, явно католические, с русскими почти что незнакомые. А всего месяц как из России. Ответ на воздух. Так, само католичество должно было стать природой, чтобы дойти и войти. С Олерона домой, в Москву, и вскоре вторая поездка, уже в год войны. Последний в России – заказ декораций к «Граду Китежу» и заказ росписи домовой церкви на Юге, – обе невыполненные. Так была уверена, что вернется, что...
«Ангелы были вырезаны, оставалось только их наклеить. Но я не успела, уехала за границу, а они так и остались в папке. Может быть, кто-нибудь другой наклеил. Но – как? Нужно бы уж очень хорошо знать меня, чтобы догадаться: какого – куда». (В голосе – озабоченность. Речь об ангельском окружении Алексея человека Божьего.)
 Эскиз костюма для литургии
Эскиз костюма для литургии
…Растение, вот к чему неизбежно возвращаюсь, думая о Гончаровой. Какое чудесное, кстати, слово, насущное состояние предмета сделавшее им самим…
Не об одном растительном орнаменте речь, меньше всего, хотя и говорю о живописце. Всю Гончарову веду от растения, растительного, растущего. Орнамент – только частность. Волнение, с которым Гончарова произносит «куст», «рост», куда больше, чем то, с которым произносит «кисть», и – естественно, – ибо кисть у нее в руке, а куст? рост? Доводов, кроме растительных, от Гончаровой не слыхала. – «Чем такое большое и круглое дерево, например, хуже, чем...» Это – на словах «не хуже, чем», в голосе же явно «лучше» – что – лучше! – несравненно.
…Куст, ветвь, стебель, побег, лист – вот доводы Гончаровой в политике, в этике, в эстетике. Сама растение, она не любит их отдельно, любит в них себя, нет, лучше, чем себя: свое. Пишучи ивовые веточки и тополиные сережки – родню пишет тульскую. А то подсолнухи, родню тираспольскую. Родню кровную, древнюю, породнее, чем Гончарова – та. Глядя на Гончарову, глядящую на грядку с капустой – вниз – или на ветку в сережках– вверх, хочется вложить ей в уста последнюю строчку есенинского Пугачева:
« – Дар-рагие мои... ха-ар-рошие...»
 Желтый и зеленый лес
Желтый и зеленый лес
Мнится мне, Гончарова больше любит росток, чем цвет, стебель, чем цвет, лист, чем цвет, виноградный ус, чем плод. Здесь рост голее, зеленее, новее. (Много цветов писала, там – подсолнухи, здесь магнолии (родню дальнюю), всюду розы – родню вечную, не в этом суть.) Недаром любимое время года весна, в цвет – как в путь – пускающаяся. И еще – одно: цвет сам по себе красив, любовь к нему как-то – корыстна, а – росток? побег? Ведь только чистый жест роста, побег от ствола, на свой страх и риск.
Гончарова и театр
Основная база Гончаровой – Париж. Здесь она живет и работает вот уже пятнадцать лет.
Начнем с самой громкой ее работы – театральной. Театром Гончарова занималась уже в России: «Золотой Петушок», «Свадьба Зобеиды», «Веер» (Гольдони).
«Золотой Петушок». Народное, восточное, крестьянское. Восточно-крестьянский царь, окруженный мужиками и бабами. Не кафтаны, а поддевки. Не кокошники, а повязки. Сарафаны, поневы. Бабы и как тогда и как всегда. Яркость – не условная лжерусского стиля «клюква», безусловная яркость вечно – крестьянского и восточного. Не восстановка историка и археолога, архаическое чувство далей. Иным языком: традиция, а не реставрация, и революция, а не реставрация. Точь-в-точь то же, что с народной сказкой «Золотой петушок» сделал Пушкин. И хочется сказать: Гончарова не в двоюродную бабку пошла, а в сводного деда. Гончарова вместе с Пушкиным смело может сказать: «я сама народ».
 Эскиз костюма для оперы-балета «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова
Эскиз костюма для оперы-балета «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова
«Золотой Петушок» поворотный пункт во всем декоративном искусстве. Неминуемость пути гончаровского балета. Гончаровский путь не потому неминуем, что он «гончаровский», а потому, что он единственный правильный. (Потому и «гончаровский», что правильный.)
Здесь время и место сказать о Гончаровой – проводнике Востока на Запад – живописи не столько старорусской: китайской, монгольской, тибетской, индусской. И не только живописи. Из рук современника современность охотно берет – хотя бы самое древнее и давнее, рукой дающего обновленное и приближенное. Вещи, связанные для европейского художника с музеями, под рукой и в руках Гончаровой для них оживают. Силой, новизной и левизной – дающей, подающей, передающей – дарящей их руки.
«Свадьба Зобеиды». Здесь Гончарова впервые опрокидывает перспективу, и, с ней, нашу точку зрения. Передние вещи меньше задних, дальние больше ближних. Цветочные цвета, мелкопись, Персия…
 Павлин под ярким солнцем
Павлин под ярким солнцем
Гончарова и машина
В нашем живописании доселе все спевалось. Гончарова природы, народа, народов, со всей древностью деревенской крови в недавности дворянских жил, Гончарова – деревня, Гончарова – древность. Гончарова – дерево, древняя, деревенская, деревянная, древесная, Гончарова с сердцевиной вместо сердца и древесиной вместо мяса, – земная, средиземная, красно– и– черно-земная, Гончарова – почвы, коры, норы —боящаяся часов («Вы только послушайте! Ведь это лошадь бежит по краю земли!»), сопутствующая лифту, пылящая пылесос (так и лежит в пыли, как в замше) – Гончарова первая ввела машину в живопись.
Удар пойдет не оттуда, откуда ждут. Машина не мертвая. Не мертво то, что воет человеческим – нечеловеческим! – голосом, таким – какого и не подозревал изобретатель! – сгибается, как рука в локте, и как рука же, разогнувшись, убивает, ходит, как колено в коленной чашке, не мертво, что вдруг – взрывается или: стоп – внезапно отказывается жить. Машина была бы мертва, если бы никогда не останавливалась. Пока она хочет есть, пока она вдруг не хочет дальше или не может больше, кончает быть – она живая.
 Ангелы и аэропланы
Ангелы и аэропланы
Гончарова с машиной в своих вещах справляется с собственным сердцем, где конь, с собственным сердцем, падающим в лифте – в лифт же! – с собственной ногой, переламывающейся по выходе с катящейся лестницы. О, бессмыслица! мало сознания, что земля катится, нужно еще, чтобы под ногой катилась! о уничтожение всей идеи лестницы, стоящей нарочно, чтобы мне идти, и только пока иду (когда пройду, лестницы опять льются! в зал, в пруд, в сад), –уничтожение всей идеи подъема, ввержение нас в такую прорву глупости: раз лестница – я должен идти, но лестница... идет! я должен стоять. И ждать – пока доедет. Ибо не пойду же я с ней вместе, дробя ее движение, обессмысливая ее без того уже бессмысленный замысел: самоката, как она обессмыслила мой (божественный): ног. Кто-то из нас лишний. Глядя на все тысячи подымающихся (гончаровское метро Mabillon, где я ни разу задесятки лет не подымалась, по недвижущейся, с соседом), глядя на весь век, – явно я.
Пушкин ножки воспевал, а я – ноги!
«Maison roulante»'«Дом на колесах» (фp.). (детская книжка о мальчике, украденном цыганами), – да, tapis roulant[19] – нет.
Чтобы покончить с катящейся лестницей: каждая лестница катится 1) когда тебя на ней нет 2) в детстве, когда с нее.
Гончарова машину изнутри – вовне выгоняет, как дурную кровь. Когда я глазами вижу свой страх, я его не боюсь. Ей, чтобы увидеть, нужно явить. У Гончаровой с природой родство, с машиной (чуждость, отвращение, притяжение, страх) весь роман розни – любовь.
 Велосипедист
Велосипедист
Машина – порабощение природы, использование ее всей в целях одного человека. Человек поработил природу, но, поработив природу, сам порабощен орудием порабощения – машиной: сталью, железом, природой же. Человек, природу восстановив против самой себя, с самой собой стравив, победителем (машиной) раздавлен. Что не избавило его от древнего рока до– конца – во-веки непобедимого побежденного – природы: пожаров, землетрясений, извержений, наводнений,откровений... Попадение под двойной рок. Человек природу с природой разъединил, разорвал ее напополам, а сам попал между…
 Натюрморт
Натюрморт
…Как работает Наталья Гончарова? Во-первых, всегда, во-вторых, везде, в-третьих, всё. Все темы, все размеры, все способы осуществления (масло, акварель, темпера, пастель, карандаш, цветные карандаши, уголь – что еще?), все области живописи, за все берется и каждый раз дает. Такое же явление живописи, как явление природы. уже говорили о гармоничности гончаровского развития: вне катастроф. То же можно сказать о самом процессе работы, делания вещи. Терпеливо, спокойно, упорно, день за днем, мазок за мазком. Нынче не могу – завтра смогу. Оторвали – вернусь, перебили – сращусь. Вне перебоев…
…Вся Гончарова в двух словах: дар и труд. Дар труда. Труд дара…
 Эскиз декорации
Эскиз декорации
Дюфрен К. Мария Каллас / Клод Дюфрен. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей).
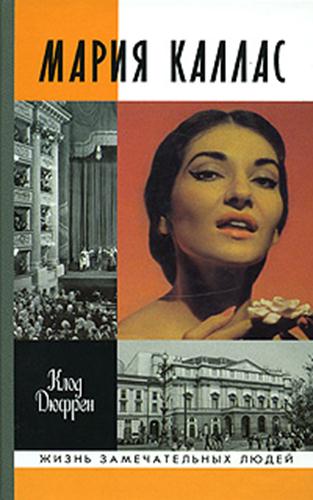
Прекрасный принц на белом коне
(отрывок)
…Ветхое грузовое суденышко, на котором он плыл в Аргентину, неторопливо рассекало гладь Средиземного моря. У Аристотеля было достаточно времени, чтобы вдоволь налюбоваться сверкающей огнями Ривьерой… В его ушах звучали волшебные слова: Канны, Ницца, Монте-Карло… Семнадцатилетний эмигрант, направлявшийся в поисках лучшей доли в страну гаучо, конечно, в тот момент и думать не мог о том, что в один прекрасный день на этих берегах его будут встречать вместе с князем Монако как истинного властелина Монте-Карло…
…Сойдя на берег в Аргентине, молодой человек пошел по пути всех бедных эмигрантов. Прочитав короткое объявление в газете, Аристотель устроился на должность ночного телефониста с нищенской зарплатой. Почувствовав, что в Новом Свете наступило время «легких» денег, он занялся перепродажей сигарет — в Смирне его отец занимался экспортом табака, — что принесло ему первые заработанные доллары. Затем деньги пошли к деньгам. В тридцатые годы он уже был судовладельцем, правда, совсем мелким. Но уже некоторое время спустя он заработал на перевозке нефти миллионы, а затем и миллиарды.

…Некоторое время спустя в Венеции одна местная знатная особа, походившая своими манерами на даму прошлого века, — графиня Кастелбарко устроила в честь Каллас праздник. Среди приглашенных был некий грек… Человек, который мог позволить себе все. Вынашивал ли он еще до этого свой коварный план соблазнения самой известной женщины в мире? Мечтал ли раньше этот выскочка-миллиардер завладеть мировым достоянием, какое представляла собой Мария? Или же такое желание возникло у него внезапно средь венецианского бала? В городе дожей, где тени прошлого каждую ночь до самого рассвета танцевали фарандолу, сбывались самые безумные мечты…. Несмотря на присутствие своей жены Тины и супруга оперной дивы Баттисты, Аристотель ни на шаг не отходил в тот вечер от Каллас. Конечно, она так походила на прекрасную античную греческую статую, что судовладелец пожелал привязать ее к своей корме… В конце бала он уже не мог больше сдерживаться и пригласил супругов Менегини принять участие в ближайшем круизе на своей яхте-дворце «Кристина».

Мария в компании Аристотеля Онассиса и Грейс Келли во время круиза на яхте
«Кристина». Балеарские острова. 1960.
У Ари было море обаяния, — поведал нам Мишель Глотц. — Если он задумал кого-либо обворожить, то действовал с умом… Простота общения, широта жестов и веселый нрав удивляли и подкупали любого человека, на которого он хотел произвести благоприятное впечатление, особенно из-за того, что о нем ходили самые нехорошие слухи».
Вот и Мария попалась на удочку этого волка в овечьей шкуре. Помимо всего прочего, они были соотечественниками, что весьма сближает людей, когда они находятся вдали от родных берегов.
…17 июня певица уже прибыла в Лондон, чтобы петь в опере композитора Керубини. Публика «Ковент-Гардена» устроила ей, как обычно, самый теплый прием, а музыкальные критики отдавали должное больше артистическим качествам Каллас, ее умению держаться на сцене и выразительности исполнения роли Медеи, чем ее вокальным данным.
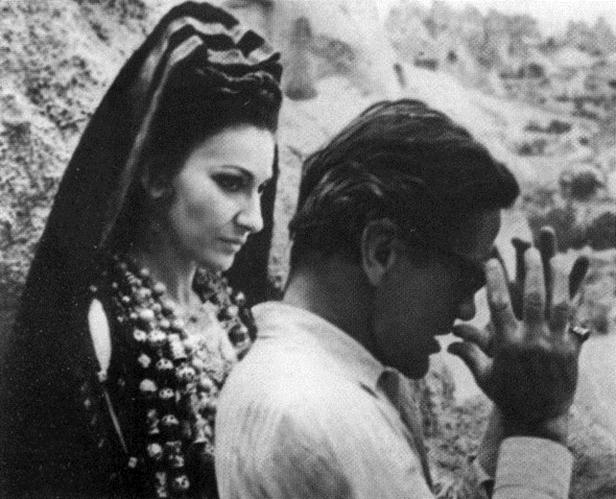
Мария Каллас в роли Медеи и Пьер Паоло Пазолини во время работы над фильмом «Медея». 1969.
Несмотря на то, что Онассис ничего не понимал в оперном искусстве, он приехал в «Ковент-Гарден» одним из первых, как самый страстный любитель оперы. Оплатив несколько десятков мест, он отправился в театральный бар, где вручал эти дорогие билеты своим друзьям вместе с приглашением, текст которого напоминал рекламное объявление, что было в духе Онассиса: «Господин и госпожа Онассис имеют удовольствие пригласить на прием в честь Марии Каллас. Прием состоится в отеле «Дорчестер» в четверг 17 июня в 23 часа 15 минут».
Описывая этот вечер, ставший предвестником перемен к худшему в его жизни, Менегини уверял, что его супруга вовсе не собиралась идти на прием и инициатива заглянуть на короткое время в «Дорчестер» принадлежала исключительно ему… Бедный Менегини! Его слова опровергает фотография, опубликованная во всей европейской прессе: мы видим между Баттистой и Аристотелем оперную диву, которая на целую голову выше как своего «бывшего суженого», так и будущего. Онассис положил руку на плечо Каллас, в то время как Менегини опустил свою ладонь, словно в знак согласия с будущей «передачей прав» на Марию. Конечно, это было не так, о чем свидетельствует немного вымученная улыбка Менегини, в то время как за темными стеклами очков глаза Онассиса сверкают, как у хищника, схватившего свою добычу.
Само собой разумеется, что столь впечатляющий снимок был сделан для публики, однако он свидетельствует о том, что Каллас, похоже, не считала зря потраченным время, проведенное в «Дорчестере», где оставалась до трех часов утра. Могло бы такое произойти, если бы она смертельно скучала на этом приеме? Онассис предпринял все, чтобы вскружить ей голову: бесчисленное количество цветов, оркестр, игравший танго, поскольку Мария высказала такое желание, и миллиардер тут же широким жестом раздал музыкантам королевские чаевые, горы самых изысканных угощений, море шампанского, а главное, вездесущий, всемогущий, предупредительный, жизнерадостный, веселый и обаятельный Ари… Короче говоря, Мария была тронута его вниманием до глубины души. Если нужно доказательство, то достаточно взглянуть на вытянутые лица Тины Онассис и Титта Менегини. На фото невооруженным глазом видно, что они испытывают чувство глубокой досады.

Мария между Баттистой Менегини и Аристотелем Онассисом (справа) получает
«благословение» Эльзы Максвелл. На яхте «Кристина».
Когда Мария вернулась с Баттистой в свой гостиничный номер в «Савойе», она уже приняла решение, хотя супругу пока ничего не сказала: она примет приглашение Ари. Последний, впрочем, не заставил себя долго ждать и вскоре позвонил. Он настолько ловко добивался своей цели, что привлек для этого свою жену Тину. Менегини цеплялся за любой предлог, чтобы отложить путешествие, которое не сулило ему ничего хорошего: он устал, его престарелая мать была больна, его мучила морская болезнь, стоило ему ступить на палубу корабля, он плохо говорил по-французски и еще хуже по-английски… Все приводимые им аргументы тотчас же оборачивались против него. «Зачем мне нужен такой спутник жизни?» — могла думать Мария. Желание супруги отправиться в круиз на «Кристине» вызвало у Баттисты смутное беспокойство. Он еще больше разволновался бы, узнав, что Мария дала указание организаторам двух ее концертов в Амстердаме и Брюсселе не переводить ее гонорар на общий с мужем счет, а хранить деньги до нового указания. Интересно, до какого?..
Утром 23 июля Мария ступила на палубу «Кристины», сделав шаг навстречу главной любовной истории в своей жизни…

Ее встретил судовладелец, цирковой фокусник и маг в одном лице, готовый перед ней вытащить из шляпы весь свой реквизит иллюзиониста, все волшебные миражи, начиная с самой «Кристины»… Пятипалубное судно в сто метров длиной и двенадцать шириной, с тридцатью членами экипажа и многочисленным обслуживающим персоналом. В то же время, если небо заволакивали тучи, нельзя было догадаться, что находишься на борту плавучего средства, поскольку оно походило одновременно на музей, дворец и королевское жилище. Так же как его соотечественник Ясон, Аристотель Онассис добыл золотое руно, сияние которого распространялось повсюду: в холлах, где по стенам были развешаны полотна известных художников, в каютах, обставленных венецианской мебелью, в ванных комнатах из сиенского мрамора с мозаикой и кранами из золота, в бассейне, дно которого украшали барельефы из дворца Кноссос.

Самое удивительное заключалось в том, что вся эта мишура и позолота, вся кричавшая роскошь не были безвкусицей. Все собранные здесь разнородные сокровища сосуществовали в продуманной гармонии. Как Мария могла устоять перед столь пышными декорациями, которые Онассис поспешил ей показать, едва она ступила на борт корабля? Как при виде старого льва Уинстона Черчилля не вспомнить ей о том дне 1944 года, когда бедная юная гречанка под шквальным ветром гражданской войны увидела его, проходившего мимо как символ свободы? Какой длинный путь прошла Мария Калогеропулос всего только за пятнадцать лет! Мог ли круиз на яхте «Кристина» не будоражить ее воображение? Мог ли бедный Титта бороться с дьяволом-искусителем в образе Онассиса? Игра велась на заведомо неравных условиях. У грека в руках были крапленые карты: выигрыш уже лежал у него в кармане.
…Он окружил ее вниманием, достойным королевы. Этот новый Али-Баба широко распахнул перед ней двери своей пещеры с несметными сокровищами. Остальные приглашенные присутствовали здесь в роли статистов или же в качестве алиби.

…А что же Мария? Какие чувства испытывала она? Что происходило в ее душе, жившей до сих пор одними только театральными страстями и переживаниями? Если в ее душе и происходила борьба между любовью и долгом, то совсем недолгое время. А как могло быть иначе? Как могла она бороться с происходившим с ней чудом: она была влюблена впервые за тридцать шесть лет жизни! Пламя неожиданно вспыхнувшей страсти разгоралось так стремительно еще и потому, что это была поздняя страсть. Ее огонь мгновенно распространялся, сжигая все на своем пути… Любовь Баттисты была слишком пресной и праведной, почти отеческой. Безнадежное чувство к Лукино Висконти оказалось лишь прелюдией к великой страсти.

Мария Каллас и Лукино Висконти. Чисто творческая «любовная связь». 1955.
И только Ари сумел разбудить ее чувственность и заставить учащенно биться сердце. Только теперь Мария поняла, что вовсе не являлась бесчувственным идолом, античной статуей, почитавшейся толпой восторженных и платонических поклонников, а женщиной, состоящей из плоти и крови… Когда они танцевали с Ари так близко, когда вели бесконечные беседы на палубе «Кристины», когда, встретившись нечаянно взглядом, чувствовали себя наедине друг с другом, хотя вокруг было полно других пассажиров, — каждую секунду она открывала для себя новый, неведомый ей мир. И это открытие будоражило и волновало ее кровь. И тогда Мария решила дать волю своим чувствам и как в омут бросилась в объятия Ари.
…Когда Мария Каллас сошла на берег с борта яхты «Кристина», это уже была совсем другая женщина, которой руководила самая мощная из всех побудительных сил, не признававшая ни моральных, ни нравственных преград: она была влюблена. Со свойственной ей одержимостью Мария приняла решение во что бы то ни стало преодолеть все препятствия на пути к осуществлению своих заветных желаний…

Героиня, с которой Мария Каллас отождествляла себя: «Беллини сочинил
«Норму» для меня».
Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный [Текст] / Т.П. Григорьева. - М.: Искусство, 1993. — 464 с.: ил.

Дух живет, где хочет,
открывает Истину в Красоте,
соединяя в одну семью разные народы.
Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету...
Иссё
Видели все на свете
Мои глаза - и вернулись
К вам, белые хризантемы.
Иссё
КРАСОТА, КОТОРАЯ СПАСЕТ МИР
Сказано: не упоминай имя Божье всуе, и то же о Красоте … Путь японцев можно назвать путем Красоты (Би), которая есть Истина (Макото). Разные виды Красоты лишь разные грани одной Истины. Тагор, посетивший Японию в 1916 году, был очарован ее красотой. Как вспоминает Кришна Крипалани, его пленили виды Японии и сами японцы, особенно чувство дисциплины в народе, сила духа, выносливость, сдержанность, врожденная любовь к красоте, обворожительность их женщин. Тагор обратил внимание на то, что на улице никто не поет, и записал в дневнике: «Сердца этих людей не шумят, подобно водопаду, они тихи, как озеро. Все их стихи, которые мне приходилось слышать, это стихи-картины, а не стихи-песни».
Но, вероятно, ни одно из этих «стихов-картин» не выражает так проникновенно душу Японии, ее созерцательность, как знаменитое хайку Басё «Старый пруд»: «Старый пруд. Прыгает лягушка. Всплеск воды». - И все! Больше ничего не надо. Японец понимает глазами. Старый пруд, сумрак, тишина, никого кругом. Прыгнула лягушка, и раздался всплеск, он и говорит о том, какая стояла тишина».
***
«Японцы не только прекрасные художники, - писал Тагор, - они превратили всю жизнь человека в искусство».
***
Красота - это Свобода. Лишь там, где нет насилия, нарочитости, когда ей ничего не угрожает, она является сама, самоестественно, без всякого принуждения. Она уже существует и открывается взору, который в Красоте не себя ищет, не себя любит. Поэтому не надо ее ловить разными ухищрениями, нужно лишь дождаться благоприятного момента, того места-времени, когда является высшая Искренность. В этот момент, в этом месте Красота ощущает себя свободной, никому не служит, никому не угождает, а так, сама по себе, дарует великую Радость…
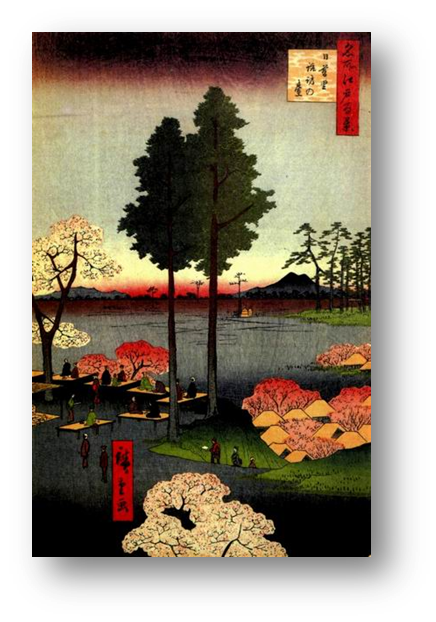
…«Прекрасное родится при открытии существующей Красоты, при переживании открытой Красоты и при воссоздании пережитой Красоты». Она сама знает свой удел и ему повинуется в свободном порыве. Да и может ли человек превзойти замысел бога, бога Красоты?
Жизнь художественного произведения непредсказуема. Пережив встречу с прекрасным, поэт отразил ее в хайку. Но теперь это лишь строки, а не живое дыхание. Будет ли произведение жить или умрет, зависит от читателя. У Кавабата ощущение «весны в Оми» связано с его личным переживанием красоты. В словах «Прекрасное родится само, в соответствующий момент» поистине важно понять, что значит «в соответствующий момент» и как «уловить этот момент», или, лучше сказать, благословение Неба. Если удалось «уловить этот момент», значит, тебя облагодетельствовал бог Красоты».
В этой чуткости к мгновению как явлению вечного, непроявленного, в умении каждый раз заново пережить мир заключена тайна японского искусства и характера японцев. Они назвали эту способность ощущать каждый раз новое рождение неизменного словом мэдэурасиса (редкостное, удивительное, вызывающее содрогание, восторг, без оттенка этического).
Вещи сами по себе выше всякого чуда, если видишь их внутренний лик, ощущаешь живое дыхание, биение их сердца. Благоговейное отношение ко всему в природе целебно для человека. Сколь ни мала вещь, она проходит свой жизненный путь и потому равна другим вещам, которые могут быть в стократ больше и жить не один день, как вьюнок - асагао (утренний ЛИК), а тысячу лет, как сосна. Но они равны, потому что каждый сохранил себя, не прельстился чужим уделом. Каждая вещь проживает жизнь, следуя своему предназначению…

МУРАСАКИ СИКИБУ
Повесть о Гэндзи
(фрагмент)
Глава «Сопоставление картин»
…Больше всего на свете государь любил живопись. Возможно, именно благодаря подобному пристрастию ему и удалось достичь на этом поприще поистине несравненного мастерства. Бывшая жрица тоже прекрасно владела кистью, а потом довольно быстро сумела завоевать его расположение. Государь то и дело заходил в ее покои, и они рисовали друг для друга. Он всегда выделял своей благосклонностью тех молодых придворных, которые занимались живописью, поэтому нетрудно себе представить, с какой нежностью смотрел он на эту прелестную особу, когда, изящно облокотившись на скамеечку-подлокотник, она то набрасывала что-то на листке бумаги пленительно-свободными движениями, то медлила с кистью в руке. Все больше времени проводил он в ее покоях, и с каждым днем умножалась его привязанность к ней…

СЭЙ СЁНАГОН
Записки у изголовья
(фрагменты)
ТО, ЧТО РЕДКО ВСТРЕЧАЕТСЯ
Тесть, который хвалит зятя. Невестка, которую любит свекровь. Серебряные щипчики, которые хорошо выщипывают волоски бровей. Слуга, который не чернит своих господ. Человек без малейшего недостатка. Все в нем прекрасно: лицо, душа. Долгая жизнь в свете нимало не испортила его. Люди, которые, годами проживая в одном доме, ведут себя церемонно, как будто в присутствии чужих, и все время неусыпно следят за собой. В конце концов редко удается скрыть свой подлинный нрав от чужих глаз. Трудно не капнуть тушью, когда переписываешь роман или сборник стихов. В красивой тетради пишешь с особым старанием, и все равно она быстро принимает грязный вид. Что говорить о дружбе между мужчиной и женщиной! Даже между женщинами не часто сохраняется нерушимое доброе согласие, несмотря на все клятвы в вечной дружбе.

ТО, ЧТО ВЕЛИКОЛЕПНО
Китайская парча. Меч в богато украшенных ножнах. Цветные инкрустации из дерева на статуе Будды. Цветы глицинии чудесной окраски, ниспадающие длинными гроздьями с веток сосны. Куродо шестого ранга.
Несмотря на свой невысокий чин, он великолепен! Подумать только, куродо вправе носить светло-зеленую парчу, затканную узорами, что не дозволяется даже отпрыскам самых знатных семей! Дворцовый прислужник для разных поручений, сын простолюдина, он был совсем незаметен, пока состоял в свите какого-нибудь должностного лица, но стоило ему стать куродо - и все изменилось! Словами не описать, до чего он ослепителен! Когда куродо доставляет императорский рескрипт или приносит от высочайшего имени сладкие каштаны на церемониальное пиршество, его так принимают и чествуют, словно он с неба спустился. Дочь знатного вельможи стала избранницей императора, но еще живет в родном доме и носит девический титул химэтими юной принцессы. Куродо является с высочайшим посланием в дом ее родителя. Прежде чем вручить послание своей госпоже, дама из ее свиты выдвигает из-под занавеса подушку для сидения, и куродо может видеть края рукавов... Думаю, не часто приходилось человеку его звания любоваться таким зрелищем! Если куродо еще вдобавок принадлежит к императорской гвардии, то он еще более неотразим. Садясь, он раскладывает веером длинные полы своих одежд, и сам хозяин дома из своих рук подносит ему чарку вина. Сколько гордости должен чувствовать в душе молодой куродо! Куродо водит дружбу с сыновьями знатнейших семей, он принят в их компанию как равный. Бывало, он трепетал перед ними и никогда не посмел бы сидеть с ними в одной комнате... А теперь юные вельможи с завистью смотрят, как в ночную пору он прислуживает самому императору, обмахивает его веером или растирает палочку туши, когда государь хочет написать письмо. Всего лишь три-четыре года куродо близок к государю... В это время он может появляться в толпе высших сановников, одетый самым небрежным образом, в одеждах негармонических цветов. Но вот всему конец - близится срок отставки. Куродо, казалось бы, должен считать разлуку с государем горше смерти, но печально видеть, как он хлопочет, вымаливая какой-нибудь тепленький пост в провинции в награду за свои услуги. В старые времена куродо с самого начала года принимались громко сетовать, что пришел конец их службы. В наше время они бегом торопятся в отставку.
Одаренный талантами ученый высшего звания в моих глазах достоин великого почтения. Пусть он неказист лицом, нечиновен, но свободно посещает высочайших особ. С ним советуются по особым вопросам. Он может быть назначен наставником императора - завидная судьба. Когда он сочинит молитвословие или вступление к стихам, все воздают ему хвалу. Священник, умудренный знаниями, тоже, бесспорно, достоин восхищения.

Торжественный проезд императрицы в дневные часы. Церемониальный кортеж канцлера - Первого человека в стране. Его паломничество в храм Касуга. Светло- пурпурные ткани цвета виноградной грозди. Все пурпурное великолепно, будь то цветы, нити шелка или бумага. Среди пурпурных цветов я все же меньше всего люблю ирис. Куродо шестого ранга потому так великолепно выглядит во время ночного дежурства во дворце, что на них пурпурные шаровары".
ТО, ЧТО ПЛЕНЯЕТ УТОНЧЕННОЙ ПРЕЛЕСТЬЮ
Знатный юноша, прекрасный собой, тонкий и стройный в придворном кафтане. Миловидная девушка в небрежно надетых хакама. Поверх них наброшена только летняя широкая одежда, распоровшаяся на боках. Девушка сидит возле балюстрады, прикрывая лицо веером. Письмо на тонкой-тонкой бумаге зеленого цвета, привязанное к ветке весенней ивы. Веер с тремя планками. Веера с пятью планками толсты у основания, это портит вид. Кровля, крытая не слишком старой и не слишком новой корой кипариса, красиво устланная длинными стеблями аира. Из-под зеленой бамбуковой шторы выглядывает церемониальный занавес. Блестящая глянцевитая ткань покрыта узором в виде голых веток зимнего дерева. Длинные ленты зыблются на ветру... Тонкий шнур, сплетенный из белых нитей. Штора ярких цветов с каймою. Однажды я заметила, как возле балюстрады перед спущенными бамбуковыми занавесками гуляет хорошенькая кошечка в красном ошейнике. К нему был прикреплен белый ярлык с ее именем. Кошечка ходила, натягивая пестрый поводок, и по временам кусала его. Она была так прелестна! Девушки из Службы двора, раздающие чернобыльник и кусудама в пятый день Пятой луны. Голова украшена гирляндой из стеблей аира, ленты, как у юных танцоров Оми, но только не алого, другого цвета. На каждой шарф с ниспадающими концами, длинная опояска.

Юные прислужницы, необыкновенно изящные в этом наряде, преподносят амулеты принцам крови и высшим сановникам. Придворные стоят длинной чередой в ожидании этого мига. Каждый из них, получив амулет, прикрепляет его к поясу, совершает благодарственный танец и отдает поклон. Радостный обычай! Письмо, завернутое в лиловую бумагу, привязано к ветке глицинии, с которой свисают длинные гроздья цветов. Юные танцоры Оми тоже пленяют утонченной прелестью.

ТО, ОТЧЕГО ВЧУЖЕ БЕРЕТ СТЫД
Тайники сердца мужчины, склонного к любовным похождениям.
Вор притаился в углу и, незаметно для всех, подсматривает. Пользуясь темнотой, кто-то украл вещицу и спрятал у себя за пазухой. Должно быть, вору забавно видеть, как другой человек делит с ним его сердечную склонность…
ТО, ЧТО УТРАТИЛО ЦЕНУ
Большая лодка, брошенная на берегу во время отлива. Высокое дерево, вывороченное с корнями и поваленное бурей. Ничтожный человек, распекающий своего слугу. Земные промыслы в присутствии Святого мудреца. Женщина, которая сняла парик и причесывает короткие жидкие пряди волос. Старик, голый череп которого не прикрыт шапкой. Спина побежденного борца.

ТО, ЧТО НИКУДА НЕ ГОДНО
Человек дурной наружности и вдобавок с недобрым сердцем. Рисовый крахмал, размокший от воды. Я знаю, многие не желают слышать о таких низменных вещах, но это не остановит меня. Да хоть бы совсем бросовая вещь, к примеру щипцы для «прощальных огней»? Неужели я буду молчать о них только потому, что они слишком всем известны? Мои записки не предназначены для чужих глаз, и потому я буду писать обо всем, что в голову придет, даже о странном и неприятном.

ТО, ЧТО НОЧЬЮ КАЖЕТСЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДНЕМ
Блестящий глянец темно-пурпурных шелков. Хлопок, собранный на поле. Волосы дамы, красивыми волнами падающие на высокий лоб. Звуки семиструнной цитры. Люди уродливой наружности, которые в темноте производят приятное впечатление. Голос кукушки. Шум водопада.
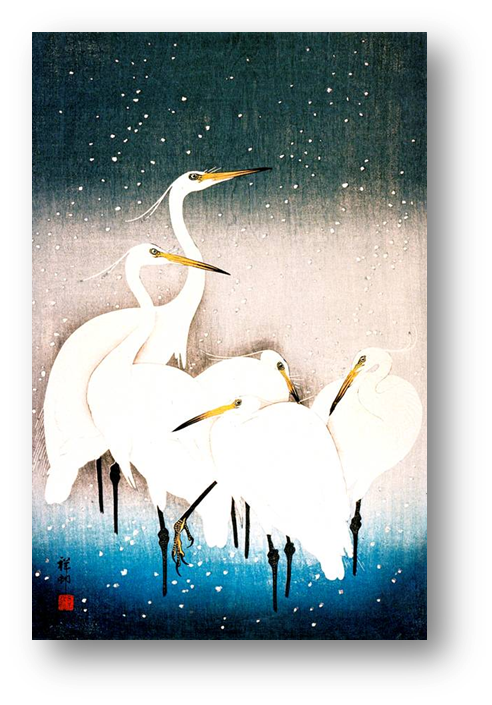
ТО, ЧТО ПРОИГРЫВАЕТ ПРИ СВЕТЕ ОГНЯ
Пурпурная парча. Цветы глициний. И вообще все вещи пурпурно-лиловых оттенков. Багрянец теряет свой цвет лунной ночью.

ТО, ЧТО НЕПРИЯТНО СЛУШАТЬ
Когда люди с неприятным голосом громко разговаривают и смеются. Невольно думаешь, что они ведут себя бесцеремонно. Когда заклинатель сонно бормочет молитвы. Когда женщина разговаривает в то время, как чернит себе зубы. Когда какой-нибудь скучный человек бормочет что-то с полным ртом. Когда учатся играть на бамбуковой свирели.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Спустился вечерний сумрак, и я уже ничего не различаю. К тому же кисть моя вконец износилась. Добавлю только несколько строк. Эту книгу замет обо всем, что прошло перед моими глазами и волновало мое сердце, я написала в тишине и уединении моего дома, где, как я думала, никто ее никогда не увидит. Кое-что в ней сказано уж слишком откровенно и может, к сожалению, причинить обиду людям. Опасаясь этого, я прятала мои записки, но против моего желания и ведома они попали в руки других людей и получили огласку. Вот как я начала писать их. Однажды его светлость Корэтика, бывший тогда министром двора, принес императрице кипу тетрадей. - Что мне делать с ними? - недоумевала государыня. Для государя уже целиком скопировали «Исторические записки». - А мне бы они пригодились для моих сокровенных записок у изголовья, - сказала я. - Хорошо, бери их себе, - милостиво согласилась импера трица. Так я получила в дар целую гору превосходной бумаги. Казалось, ей конца не будет, и я писала на ней, пока не извела последний листок, о том о сем - словом, обо всем на свете, иногда даже о совершенных пустяках. Но больше всего я повествую в моей книге о том любопытном и удивительном, чем богат наш мир, и о людях, которых считаю замечательными. Говорю я здесь и о стихах, веду рассказ о деревьях и травах, птицах и насекомых, свободно, как хочу, и пусть люди осуждают меня: «Это обмануло наши ожидания. Уж слишком мелко...». Ведь я пишу для собственного удовольствия все, что безотчетно приходит мне в голову. Разве могут мои небрежные наброски выдержать сравнение с настоящими книгами, написанными по всем правилам искусства? И все же нашлись благосклонные читатели, которые говорили мне: «Это прекрасно!». Я была изумлена. А, собственно говоря, чему здесь удивляться?

Многие любят хвалить то, что другие находят плохим, и, наоборот, умаляют то, чем обычно восхищаются. Вот истинная подоплека лестных суждений! Только и могу сказать: жаль, что книга моя увидела свет. Тюдзё Левой гвардии Цунэфуса, в бытность свою правителем провинции Исэ, навестил меня в моем доме. Циновку, поставленную на краю веранды, придвинули гостю, не заметив, что на ней лежала рукопись моей книги. Я спохватилась и поспешила забрать циновку, но было уже поздно, он унес рукопись с собой и вернул лишь спустя долгое время. С той поры книга и пошла по рукам.
Микеланджело Б. Сонеттæ [Электронный ресурс] = Сонеты / Б. Микеланджело ; ирон æвзагмæ Кокайты Тотрадзы тæлмац. – Дзæуджыхъæу : Ир, 2010. – 255 ф. : ил. // Дарьял : сайт. - Режим доступа : http://biblio.darial-online.ru/text/Kokaev_T/kokaev.pdf. – 18.07.2017
Микеланджело Б. Сонеты / Б. Микеланджело ; пер. на осет. яз. Т. Кокаева. – Владикавказ : Ир, 2010. – 255 с. - На итал. яз. с парал. русск. и осет. переводами.
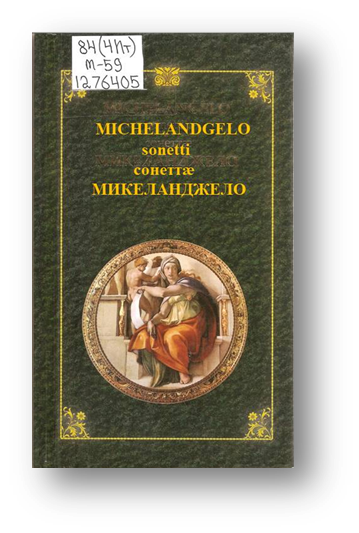
Наша справка:
Тотраз Кокаев – поэт, переводчик. Заслуженный деятель искусств РСО-Алания и РЮО. Выпускник Литературного института им. А.М. Горького, автор семи поэтических сборников.
Тæлмацгæнæгæй
…Цалынмæ ирон лæг италиаг æвзаг базона æмæ сæ хуыздæр раива, уæдмæ уал, зынаргъ чиныгкæсæг, æз мæ тæлмацтæ дæ размæ хæссын æмæ сын рæсттæрхонгæнæг у.
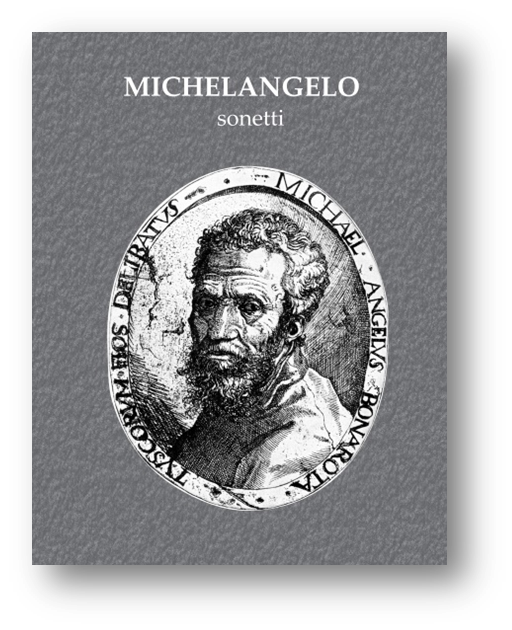
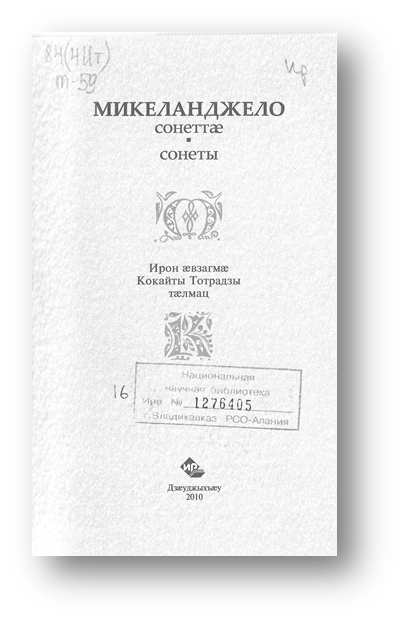
Мессерер Б. Промельк Беллы : Романтическая хроника / Борис Мессерер. - М. АСТ, 2016. - 848 с.

Наша справка:
Борис Мессерер (р. 1933) — народный художник России, академик Российской Академии художеств.
Автор сценографии более ста оперных и балетных спектаклей. В 1990—1997 годах был главным художником МХАТа. Работал в области книжной графики, оформлял альманах “Метрополь”. Автор дизайнерских проектов художественных экспозиций в Государственном музее изобразительных искусств — “От Джотто до Малевича”, “Русский придворный костюм”, Пабло Пикассо, Амадео Модильяни, Федерико Феллини, Тонино Гуэрра, Сальвадор Дали.
Тридцать шесть лет совместной жизни связывают Бориса Мессерера с Беллой Ахмадулиной.
Не плачьте обо мне – я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой,
на малярийном юге проживу.
Не плачьте обо мне – я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь,
убогим богомазом проживу.
Не плачьте обо мне – я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечёткой
мои стихи, моей рыжея чёлкой,
как дура будет знать. Я проживу.
Не плачьте обо мне – я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой
уж как-нибудь, а всё ж я проживу.
Б. Ахмадулина
Промельк Беллы
Предисловие
(Отрывок)
Идея записывать, фиксировать свои наблюдения и впечатления укрепилась в моем сознании после того, как совпали наши с Беллой жизненные пути.
Еще и до этого события я встречался со многими интересными людьми, которых правильно было бы вспомнить. Но после того как мы с Беллой стали проводить время вместе, число таких встреч неизмеримо возросло. Белла подарила мне целый круг замечательных литераторов, а я радовался ее вхождению в художественные и театральные сферы. И процесс этот был совершенно органичным, в нем не было никакой преднамеренности, он протекал естественно.
Я был не сторонним наблюдателем, а участником этой безумной, но счастливой жизни. У меня всегда было много друзей, общение с которыми занимало значительную часть моего времени. Но главным моим жизненным инстинктом было стремление хранить Беллу и ограждать ее от различных бытовых неурядиц, чтобы уберечь ее редкий талант.
Рассказ о человеческих взаимоотношениях и событиях нашей общей с Беллой жизни — не главное для меня в этой книге. Важнее образ самой Беллы, который я хотел бы донести до читателя…

Воспоминания Беллы
Звезды не было
Я вспоминала, что елок до войны не было, потом они появились, в сорок седьмом году, что ли, но откуда-то я знала, что они бывают. В эвакуации, я помню, какой-то ваткой веточку наряжала, но могу ошибиться, я маленькая была. А потом отец приносил большие елки, но мне не разрешали там трогать игрушки, Деда Мороза. Но на них никогда не надевали звезду, а надевали наконечник на верхушку. Вот мне Лиза говорит:
– Мама, а как же так, наконечник?
А звезды не было, а если была, то это кремлевская звезда. Никакой звезды не было, потому что они боялись, что это Вифлеемская звезда, как и есть на самом деле.
Я тут вспоминала стихотворение, где упоминаются Муся и Ася Цветаевы:
Две барышни, слетев из детской
светелки, шли на Мост Кузнецкий
с копейкой удалой купецкой:
Сочельник, нужно наконец-то
для елки приобресть звезду…
Я думала: как быстро я стою
В детстве я обожала воздушные шары, у меня это описано. Бабушка водила в Большой театр, а там стоял продавец со связкой летающих шаров красных. Я всегда любила, помешана была, бабушка бедная мне покупала на обратном пути. Я все помню: эта связка, красные шары и золотой был на них какой-то рисунок.
Я думала: как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и резвятся!
Мое же тело, свергнув власть мою,
ведет себя надменно и развязно.
Оно все дальше от меня! А вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и ниточку разматывает с пальца?

Письмо Сельвинского
Но до этого я работала в газете “Метростроевец”, с каким-то неимоверным и трагическим увлечением. Еще до этих стихотворений. А потом стали восхвалять. И вот тогда мать и получила для меня письмо Сельвинского. Да, уж Сельвинского-то мать хорошо знала, то есть не его, а читала, у нас была книга, “Умка – белый медведь” или что-то в этом роде, я не знаю. И вдруг столь недостойному корреспонденту-метростроевцу вдруг посыпались похвалы отовсюду.
Это очень трогательное письмо. Надо сказать, что во мне были какие-то слабые, нежные, стрекозиные защитные формы. Не то что на меня это все подействовало, но он очень преувеличил мои способности и сказал, написал, что это “дарование на грани гениальности”, ну и так далее. Рекомендовал меня для поступления в институт, куда меня и приняли с большим таким успехом.

Приведу это письмо полностью.
Милая Изабелла Ахмадулина!
Пишу Вам под впечатлением Ваших стихов, присланных мне на отзыв Лит. институтом. Я совершенно потрясен огромной чистотой Вашей души, которая объясняется не только Вашей юностью, но и могучим, совершенно мужским дарованием, пронизанным женственностью и даже детскостью, остротой ума и яркостью поэтического, да и просто человеческого чувства!
Как это Вам сохранить на будущее? Хватит ли у Вас воли не споткнуться о быт? Женщине-поэту сложнее, чем поэту-мужчине… Как бы там ни было, что бы в Вашей жизни ни произошло, помните, что у вас дарование с чертами гениальности, и не жертвуйте им никому и ничему!
До свидания, чудесное Вы существо, будьте радостны и счастливы, а если и случится какая беда – поэт от этого становится только чище и выше.
Илья Сельвинский
23.03.55.

Борис Мессерер
Возвращение Александра Вертинского
В годы моего взросления джаз был категорически запрещен как чуждое порождение буржуазной культуры. Мы располагали только довоенными пластинками эстрадных оркестров Эдди Рознера и Леонида Утесова. Не без труда можно было достать и старые заграничные пластинки Петра Лещенко и Александра Вертинского. Щемящее чувство грусти и безысходного разочарования, звучавшее в песнях Вертинского, мы почитали именно потому, что оно шло вразрез с официальной бодростью советских песен. Вертинский был чрезвычайно популярен – его образ романтически реял в нашем сознании.
И вот в 1943 году произошло сенсационное событие – Александр Николаевич вернулся в Москву из эмиграции. После Победы появились сообщения о его предполагаемых выступлениях, и вскоре было объявлено о концерте в помещении цыганского театра “Ромэн”. Благодаря отцу я попал на этот концерт.
Вертинский даже своей внешностью производил сильное впечатление. Его бледное, изможденное лицо находилось в некоей гармонии с костюмом – белой рубашкой, белой бабочкой и белым смокингом при черных брюках и черных лаковых туфлях.
“Печальный Пьеро”, о котором мне раньше доводилось читать, пел немногие в то время разрешенные песни, сопровождая исполнение круговыми движениями кистей рук, как бы сломанных в запястье. Длинные пальцы повисали в воздухе, и эта неожиданная пластика была составляющей производимого им сценического эффекта.
Голос Александра Николаевича звучал, конечно, не молодо и несколько вибрировал, но когда со сцены донеслось:
В бананово-лимонном Сингапуре,
в бурю,
когда ревет и стонет океан… —
зрители не верили своему счастью: столько раз слышанные заочно, на пластинках, экзотические слова вдруг сделались нашей реальностью. И в жизни, и в сознании рушились барьеры, разделявшие два мира. Да и вообще не верилось, что совершилось чудо возвращения Вертинского в Россию.
По окончании концерта мы с отцом прошли к артисту за кулисы, чтобы поздравить с успехом. Увидев нас, Вертинский воскликнул:
– Асаф, а ты помнишь, как мы встретились в тридцать третьем году в Берлине, когда фашисты подожгли Рейхстаг?!
Отец предложил Александру Николаевичу поужинать в ресторане. Вертинский с радостью согласился.
Поскольку после развода мои родители сохранили хорошие отношения, то, встретив в фойе маму и Игоря Владимировича Нежного, мы пригласили их пойти с нами. Вертинский был со своей женой Лилей (Лидией) Владимировной. Держался он весьма отстраненно, чувствовалось, что живет в своем мире. Никакого свойского тона по отношению к окружающим не брал. Это можно сказать и обо всех остальных членах нашей компании.

Александр Вертинский и Лидия Циргвава
Когда мы сели за стол и подошел официант, Вертинский заказал рокфор. Но “р” он произнес на французский манер, грассируя. Однако официант ничего не понял не только из-за произношения, но и потому, что такого сыра в ресторане тогда и в помине не было.
Эта забавная мизансцена повторялась трижды. Трижды Вертинский произносил “гогфог”, и трижды официант переспрашивал: “Чего изволите?” Наконец Вертинский отказался от дальнейших переговоров с официантом и заказ стараниями Игоря Владимировича приобрел конкретную форму.
Выпили по рюмке водки, и Александр Николаевич начал цитировать строчки своих запрещенных песен. Среди до боли знакомых строк замелькали стихотворения Цветаевой и других поэтов, которые он положил на музыку. Он стал с раздражением рассказывать о мытарствах в министерстве культуры и реперткоме:
– У меня есть двести пятьдесят песен, а мне газгешают петь только двадцать пять. И когда я туда пгихожу, эти кгысы с оггомными бюстами мне отказывают.
Посвящается Майе Плисецкой

Белла оказалась вовлеченной в наши родственные отношения с Майей. При первой встрече Майя была напряжена и не могла решить, какой путь общения следует выбрать. В одном из телефонных разговоров она даже сказала:
– Борис, пусть Белла что-нибудь напишет про меня! Я хочу понять, как она ко мне относится.
Я буквально взмолился:
– Майя, подожди! Это произойдет само, не сразу!
Майя осталась недовольна, но промолчала. Я знал, что Белла принимает ее восторженно, но также понимал: чтобы родились стихи, посвященные ей, потребуется время.
В дальнейшем мы стали часто встречаться и, конечно, бывать в Большом театре, в основном на балете “Кармен-сюита”. После спектакля, как правило, поднимались на сцену, целовались с Майей и пожимали руку Родиону Щедрину.

Родион Щедрин, Белла Ахмадулина и Борис Мессерер
Белла смотрела балет, отдаваясь ему полностью, особенно переживая момент, когда Кармен-Майя, сидя на табурете в своей знаменитой позе: вытянув назад ногу, а локтем опираясь на колено другой ноги, поддерживала ладонью подбородок и неотрывно смотрела на Тореадора. У Беллы текли слезы, и она объясняла свое состояние дочерям, смотревшим вместе с ней спектакль. Потом она записала разговор с ними.
Ее героиня – всегда трагедия и страсть, страсть как любовь и как страдание. Мои глаза влажнеют. Рядом сидящие малые дети спрашивают:
– Ее – убьют?
Отвечаю:
– Есть одна уважительная причина плакать – искусство.
И дети запомнили…
Воспоминания о Майе Плисецкой мне хочется закончить словами Беллы:
Человек получил свой дар откуда-то свыше и вернул его людям в целости и сохранности и даже с большим преувеличением. <…> Меня поражает в ее художественном облике совпадение совершенно надземной одухотворенности, той эфемерности, которую мы всегда невольно приписываем балету, с сильной и мощно действующей страстью. Пожалуй, во всяком случае, на моей памяти, ни в ком так сильно не совпала надземность парения, надземность существования с совершенно явленной энергией трагического переживания себя в пространстве…
Та, в сумраке превыспреннем витая,
кем нам приходится? Она нисходит к нам.
Чужих стихий заманчивая тайна
не подлежит прозрачным именам.
Как назовем природу тех энергий,
чья доблестна и беззащитна стать?
Зрачок измучен непосильной негой,
Измучен, влажен и желает спать.
Жизнь, страсть – и смерть. И грустно почему-то.
И прочных формул тщетно ищет ум.
Так облекает хрупкость перламутра
морской воды непостижимый шум.
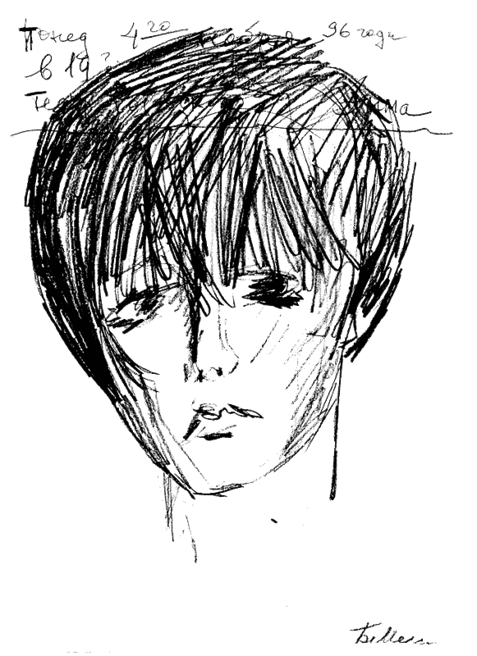 Б. Мессерер. Портрет Беллы
Б. Мессерер. Портрет Беллы
Ремарк, Эрих Мария. «Скажи мне, что ты меня любишь…» : роман в письмах / Эрих Мария Ремарк, Марлен Дитрих ; [пер. с нем. Е.П. Факторовича]. – М.: Изд-во АСТ, 2015. – 288 с. – (Возвращение с Западного фронта).

По большому счету Ремарк писал эти письма себе. Печальные и прекрасные, они не ждут ответа. Это письма-размышления, наполненные грустью и меланхолией. Обращение к собственной душе, своеобразный сон наяву…

Предисловие
Из всех качеств, составляющих мир того Эриха Мария Ремарка, которого я знала, меня больше всего трогала его поразительная ранимость. Никто не ожидает найти детскую непосредственность в человеке, написавшем, возможно, самую цельную книгу о своем личном военном опыте; это особенно маловероятно, если прежде всего видишь в нем всемирно известного писателя, с такой уверенностью приемлющего и свою славу, и свою участь. А на деле его закованность в гладкий внешне панцирь, которую он столь тщательно имитировал, была щитом Ремарка, его изощренной защитой от того, что он сам до конца не познал.
Для меня он как настоящий человек открылся в изобретении Альфреда, этого волшебного маленького школьника, личного Сирано Ремарка, созданного им, чтобы ухаживать за моей матерью, Марлен Дитрих, чтобы обвораживать и околдовывать ее. Он проникал в ее сердце поверх тех эмоциональных барьеров, которые можно было воздвигнуть против обычных любовников. То обстоятельство, что ни Ремарк, ни Дитрих не поняли истинной глубины требовательности Альфреда, что чистота его сдержанности осталась незамеченной, — это всего лишь дополнительная потеря, с точностью вписывающаяся в жизнь Эриха Мария Ремарка.
Мария Рива
«СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ…»
(Фрагменты)
Эрих Мария Ремарк из Порто-Ронко (после 24.11.1937)
Марлен Дитрих в Нью-Йорк
Большая комната наполнена тихой-тихой музыкой — фортепьяно и ударные, — это все Чарли Кунц, десятка два пластинок которого нанизаны на штырь моего проигрывателя. Это музыка, которую я люблю — чтобы отлететь, предаться мечтам, желаниям…
Вообще-то мы никогда не были по-настоящему счастливы; часто мы бывали почти счастливы, но так, как сейчас, никогда. Согласись, это так. Иногда это было с нами, иногда это было с другими, иногда одно с другим смешивалось — но самого счастья в его полноте не было. Такого, чтобы не представить себе еще большего; все было словно пригашено, как и сейчас. Ты вдумайся — только будучи вместе, мы его обретаем.

Пылкая моя, сегодня ночью я достал из погреба в скале самую лучшую бутылку «Штайнбергер кабинет» урожая 1911 года — из прусских казенных имений, элитное вино из отборного предзимнего винограда. С бутылкой и с собаками я спустился к озеру, взбаламученному и вспенившемуся; и перед собаками, и перед озером, и перед ветром, и перед Орионом я держал речь, состоявшую из считанных слов, — и тут собаки залаяли; они лаяли, а озеро накатило белый вал, поднялся ветер, и мы ощутили на себе его сильные порывы, Орион замерцал, словно брошь девы Марии, и бутылка, описав дугу, полетела сквозь ночь в воду, как приношение богам за то, что несколько лет назад они в этот день подарили мне тебя.
Эрих Мария Ремарк из Порто-Ронко (25.11–07.12.1937)
Марлен Дитрих в Беверли-Хиллз, отель «Беверли Уилшир»
Сейчас ночь, и я жду твоего звонка из Нью-Йорка. Собаки спят рядом со мной, на проигрывателе пластинки, которые я нашел: «Easy to love», «I got you under my skin, awake from a dream»…
Нежная! Любимая кротость! Среди мимоз, что вокруг моего дома, расцвела в последние дни маленькая ветка. На утреннем солнце она золотой гроздью свисает перед белой стеной. Мягкая, как твое сонное дыхание на моем плече…
Сладчайшая… иногда по ночам я протягиваю руку, чтобы притянуть поближе к себе твою голову…
… Но у тебя уже день, понемногу начинают зажигаться уличные фонари, ты стоишь посреди своей комнаты, кто-то пригласил тебя поужинать или сходить вместе в театр, на постели разложены твои вечерние туалеты, и ты не знаешь, надеть ли белое платье с золотым корсетом от Скиапарелли или черно-золотое от Аликc. Или вон то, с черными блестками? Или красно-зеленое от Аликс? А может быть, изящный костюм от Лануан, который опять будет царапать тебе шею? Или зеленовато-золотистое платье из Голливуда, из той же ткани, что и платье, которое было на мамаше Роша в «Максиме»? Или одно из тех, в греческую складку, от Виоме?
Дай мне сигарету, дорогая, — от примерок я устаю. А теперь взгляни в зеркало. Светлое, любимое лицо! Ты коротко встряхиваешь головой, отбрасывая волосы назад. Одно плечо опять ниже другого. И все как-то перетягивается вперед, придется Тобиасу согласиться. И даже господин Шеербаун, лицо у которого более багровое, чем у коротышки в углу, вынужден будет подтвердить. А когда ты снимаешь жакеты, они соскальзывают со слегка отставленных плеч, будто их снимает с тебя ангел.

Ничего не забыл? Ах, ну да! Пальто, эта накидка лешего. Опять ночью было полно домовых. Как оно раздувается по бокам — будто щека у хомяка. Не говоря уже о том, что оно распахнуто. О ты, терпеливейший из всех падших ангелов! А потом опять будет китайский чай у Смита. И кексы, и корнфлекс. И злые шутки, и гогот, и пустая болтовня. Но сначала ты расчешешь волосы черным гребнем. Наклонив голову набок, будешь часто продирать их торопливыми движениями, невзирая на боль. А потом вздох, взгляд ниоткуда и никуда, неуловимая улыбка, обращенная ко всем и ни к кому в частности, быстрая прогулка и теплое вечернее дыхание далеких Елисейских полей…
Милая! Ангел западного окна! Мечта светлая! Я никогда больше не буду ругаться, когда ты убежишь от больного ишиасом старика. Золотая моя, с узенькими висками и глазами цвета морской волны, вдобавок я обещаю тебе никогда не ругаться из-за проклятого шелкового одеяла, за которое цепляются пальцы ног…

Малышка с катка! Добытчица денег! Тепло ли ты одеваешься, выходя из дома? Опекает ли кто-нибудь тебя? Не снимай никогда своих теплых варежек, а не то отморозишь пальцы! Продувай время от времени варежки своим дыханием! Мы еще сходим с тобой в самую большую кондитерскую, и я закажу тебе какао со взбитыми сливками и огромное блюдо с яблочным пирогом. Тем самым, где поверху такой мудреный крест. И голову мавра. А взбитых сливок закажем, сколько пожелаешь…
Эрих Мария Ремарк из Парижа (после 07.12.1937)
Марлен Дитрих в Беверли-Хиллз, отель «Беверли Уилшир»
Маленькая милая обезьяна, ну что это за жалкая жизнь! Ты на другой стороне земли и время от времени только и делаешь, что возьмешь да пошлешь телеграмму. Разве написать письмо так трудно?
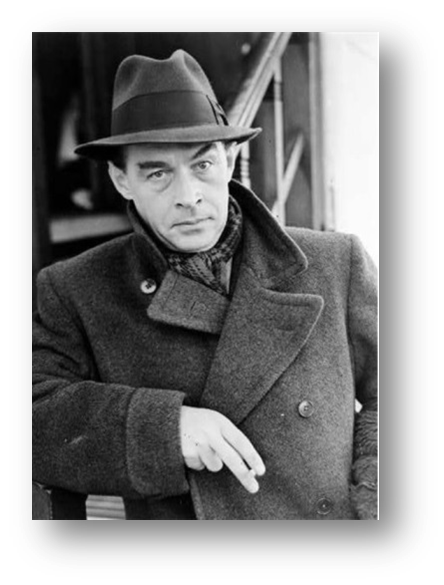

Эрих Мария Ремарк из Порто-Ронко (после 24.12.1937)
Марлен Дитрих в Беверли-Хиллз, отель «Беверли Уилшир»
Когда я вернулся домой к собакам, коврам, картинам, к озеру и наконец к солнцу, я думал, что мне от этого будет очень хорошо. Но во второй половине дня стало как-то сумеречно, хотя ничего не произошло, и все постепенно слилось в одну премерзкую тоску, на которой я повис, как на парашюте, и все стало мне чуждым, как мне всегда и везде становится под конец чуждым все в моей жизни, и я готов был все бросить, и не желал ничего другого, кроме одного: оказаться где-нибудь наедине, с тобой, по ту сторону времени, по ту сторону всех уз и узлов лет, по ту сторону мыслей и воспоминаний, по ту сторону самого себя и моей растраченной и постылой жизни…
А потом твой телефонный звонок, и я был наедине с тобой — наедине во всем мире, наедине с твоим нежным голосом, и, ничего не попишешь, вынужден признать: у меня задрожали руки, и я после то и дело поглядывал в зеркало: мне чудилось, что любой это заметит и что я, наверное, весь светился от счастья.
Любимая — я не знаю, что из этого выйдет, и я нисколько не хочу знать этого. Не могу себе представить, что когда-нибудь я полюблю другого человека. Я имею в виду — не так, как тебя, я имею в виду — пусть даже маленькой любовью. Я исчерпал себя. И не только любовь, но и все то, что живет и дрожит за моими глазами. Мои руки — это твои руки, мой лоб — это твой лоб, и все мои мысли пропитаны тобой, как белые холстины коптов пропитаны тысячелетним невыгорающим пурпуром и королевским цветом золотого шафрана.
Милая радуга перед отступающей непогодой моей жизни! Ветер, потяжелевший от влаги и запахов дальних садов, мягкий молодой ветер из забытых лесов, детский ветер над потрескавшимися, иссохшимися полями моего бытия, птичий крик над обуглившимися пашнями, нежная пастушья дудочка отлетевших снов, ах, ты мелодия из предвечных времен, которую я уже не надеялся отыскать…

Как тебя угораздило родиться! Как за миллионы лег путь твоей жизни пересек мою, обозначенную редкими блуждающими огнями! О ты, Рождественская! Подарок, который никогда не искали и никогда не вымаливали, потому что в него не верили! И это при том, что не все еще разрушено! При том, что в моих глазах достало еще былой зоркости, чтобы увидеть и узнать тебя, а в моих руках достало осязательной силы, чтобы схватить и удержать тебя! Милая радуга перед приходом ночи и вечного одиночества…

***
Почему я не был вместе с тобой повсюду в то блестящее время, когда мир был ничем иным, как невероятно быстрой машиной и искрящейся пеной, смехом и молодостью! Ты сидела бы рядом со мной посреди колосящихся пшеничных полей во Франции, посреди маковых и ромашковых лугов, на дорогах Испании и перед итальянскими остериями, ты спала бы во множестве постелей у моего плеча, и вставала бы вместе со мной по ночам, когда колодцы под окнами начинали журчать чересчур громко, и ты бы ехала рядом со мной сквозь лунные ночи навстречу горизонту, все время навстречу горизонту за которым не поджидали бы чужбина и приключения, и даль. Ты видела бы вместе со мной табуны лошадей в блестящей траве пушты, вспуганных и скачущих галопом, бегущих в лунном свете жеребцов, у которых такие мягкие ноздри, что нет в мире предмета мягче их, кроме твоих рук и твоих губ; мы побывали бы внутри египетских гробниц, полных голубого света тысячелетий, любовались бы черными тенями сфинксов, словно высеченными взмахами дамасских сабель, и фиолетовыми миражами пустыни, ты повсюду была бы рядом со мной, и мое сердце горело бы подобно факелу, всегда освещая наш путь вперед… Мы никогда не грустили бы. Мы смеялись бы или молчали и иногда переживали бы часы, когда на нас серым туманом набрасывалась мировая скорбь; но мы всегда знали бы, что мы вместе, и, окутанные туманом и озадаченные загадками, прямо перед каменным обличьем Медузы разжигали бы костер нашей любви, а потом, не ведая страха и исполненные взаимного доверия, засыпали бы в объятьях друг друга, и когда просыпались бы, все было бы унесено прочь — и туман, и загадки, и бездна вопросов без ответов, и Медуза улыбалась бы нам… Мы никогда не грустили бы…

Рильке Р.М. Проза. Письма: [пер. с нем.] – Харьков: Фолио ; М.: АСТ, 1999. – 608 с.
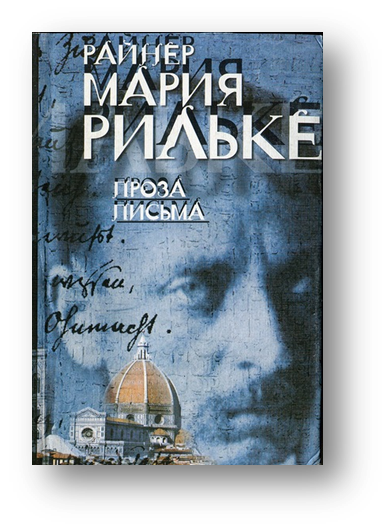
Наша справка:
Райнер Мария Рильке (1875-1926) - австрийский поэт, родился в Чехии, но свои произведения писал на австрийском языке. Рильке создал новые образцы философской лирики, пройдя в своем творчестве путь от символизма до неоклассической модернистской поэзии. Известна его привязанность к русской культуре, Россию он называл своей «духовной родиной».
Я зачитался. Я читал давно,
с тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
задумчивости, и часы подряд
стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
в них набрано: закат, закат, закат...
Райнер Мария Рильке
Проза. Письма
Огюст Роден
(Фрагменты)
Красота — всегда нечто сверхмерное, а что — мы не знаем…
… Красоту нельзя «сделать». Красоту никто, никогда не делал. Можно только создать благоприятные условия для того, что иногда изволит обитать среди нас: алтарь, и плоды, и пламя. Все остальное не в нашей власти. И сама вещь, неукротимой выходящая из человеческих рук, расположена между Богом и человеком — демон, подобный Эросу Сократа, — сама вещь не прекрасна, но вся она — любовь к прекрасному, вся она — томление по красоте…
 Роден. Вечная весна
Роден. Вечная весна
Теперь представьте себе, как это воззрение, воспринятое творцом, должно все изменить. Руководствуясь им, художник уже не думает о красоте; он не больше других знает, в чем она заключается. Одержимый порывом к осуществлению превышающих его благ, он только знает, что есть некоторые обстоятельства, при которых красота, может быть, соблаговолит посетить его вещь. Постигнуть эти обстоятельства и научиться их создавать — в этом его призвание.
***
…Теперь я осмелюсь назвать Вам имя, которое нельзя замалчивать дольше: Роден. Как Вы знаете, это имя бесчисленных вещей. Вы спрашиваете о них, и я в растерянности, так как не могу показать Вам ни одной. Но мне сдается, будто я вижу некоторые из них в Вашей памяти, будто я могу извлечь их оттуда и разместить среди нас:
этого человека со сломанным носом, незабываемого, словно поднятый внезапно кулак;
этого юношу, чей свободный порыв, устремляющийся вверх, близок Вам, как собственное пробуждение; этого путника, который новым обозначением ходьбы остался в словаре Вашего чувства; и того, кто сидит, размышляя всем телом, всасываясь в себя самого;
и горожанина с ключом, подобного большому шкафу, где заперта одна только боль. И эту Еву, словно издали никнущую на руки; ее ладони, простертые наружу, которые все хотели бы оттолкнуть, даже собственное преображающееся тело. И этот сладостный тихий внутренний голос, безрукий, как душа, обособленный орган в круговороте композиции.
И какую-нибудь маленькую вещицу, чье название Вы забыли, сделанную из белого, мерцающего объятия, тугого, как узел, и ту, другую, которая, быть может, зовется «Паоло и Франческа», и прочие мал мала меньше, обитающие в Вас плодами в совсем тонкой кожуре; — и: тут позади меня на стене Ваши глаза, подобные линзам волшебного фонаря, отбрасывают исполинского Бальзака — изображение творца в его высокомерии, обуреваемого собственным движением, как вихрем, извергающим целый мир в эту рожающую голову.
 Роден. Портрет скульптора Ж. Далу
Роден. Портрет скульптора Ж. Далу
Нужно ли мне теперь рядом с вещами из Вашего воспоминания, уже присутствующими здесь, расположить сотни и сотни других вещей? Этого Орфея, этого Уголино, эту Святую Терезу, сподобившуюся стигматов? Этого Виктора Гюго с его великим властным жестом наискосок, и того, другого, всем своим существом внимающего нашептываниям, и еще третьего, кому поют снизу три девичьих рта, словно источник, забивший ради него из земли? И я уже чувствую, как по моему рту растекается имя, и все это — теперь поэт, тот поэт, чье имя — Орфей, чья рука невероятным окольным путем огибает все вещи, добираясь до струн, тот, кто в судорогах и в муках хватает за ноги бегущую прочь, ускользающую от него музу, тот, кто, наконец, умирает — с лицом, отвесно поднятым под сенью своих поющих голосов, не затихающих в мире, — так умирает, что эту маленькую композицию называют иногда еще и «Воскресением».
Кто бы осмелился теперь удержать волну влюбленных, вздымающуюся там, снаружи, на море этого творения? Этими неумолимо сплоченными образами подступают судьбы, сладостные и безутешные имена, — но вдруг и они пропадают исчезающим блеском — и видишь дно. Видишь мужчин и женщин, мужчин и женщин, снова и снова мужчин и женщин. Но чем дальше вглядываешься, тем больше упрощается и это содержание, Тогда видишь: вещи.
 Роден. Поэт и муза
Роден. Поэт и муза
* * *
Подумайте, как должен был работать тот, кто решил овладеть всей поверхностью, когда ни одна вещь не похожа на другую. Тот, кому предстояло изучить не тело вообще, лицо, ладонь (такого просто не существует), а все тела, все лица, все руки. Какая задача возникла перед ним! Как она непритязательна и серьезна, без всяких соблазнов и посулов, без всяких фраз!
Осваивается ремесло, но не для бессмертных ли оно, такое беспредельное, в такой степени рассчитанное на беспрестанную выучку? Откуда же терпение подстать такому ремеслу?
 Роден. Три тени
Роден. Три тени
Оно в любви этого труженика, оно постоянно обновлялось ею. Ибо тайна этого мастера, может быть, в том и заключается, что он — влюбленный, и любовь его неодолима. Его вожделение было столь длительным, столь страстным и непрерывным, что все вещи поддались ему, — естественные вещи и все те загадочные вещи разных времен, в которых человеческое жаждало стать природой. Он не задерживался у тех, которые напрашивались на восхищение. Он хотел постигнуть восхищение до конца. Он принял на себя тяжелые замкнутые вещи, выносил их, и своим бременем они внедряли его все глубже и глубже в его ремесло. Под их тяжестью он должен был понять, что и художественные вещи, как оружие или как весы, воздействуют не обличием, живут не внешностью; хорошо сделать вещь — вот что главное…
Письма о Сезанне
(Фрагменты)
13 октября 1907 (воскресенье)
...Рано утром я прочел о твоей осени, и все краски, которыми ты напитала письмо, ожили в моем чувстве и до краев наполнили мое сознание силой и сиянием. В то время как я вчера любовался здесь как бы растворенной светлой осенью, ты шла другой, родной осенью, которая написана на красном дереве, как здешняя — на шелке... Если бы я приехал к вам, то я бы, конечно, совсем по-новому, иначе увидел и всю роскошь болота и луга, и зыбкую светлую зелень полян, и наши березы; именно такая перемена природы, когда мне однажды довелось пережить ее всем моим существом, и внушила мне одну из частей «Часослова»; но тогда природа была для меня еще общим поводом, побуждением к работе, инструментом, на струны которого легли мои руки; я еще не умел ее видеть; я позволил увлечь себя той душе, которая исходила от нее; она снизошла на меня, своей далью, своим великим, ни с чем не сравнимым бытием, как пророчество снизошло на Саула; именно так.
 Сезанн. Гора Санта-Виктория
Сезанн. Гора Санта-Виктория
Я шел и видел — не природу, но те видения, которые она мне внушала. Едва ли я тогда мог чему-нибудь научиться у Сезанна, у Ван Гога. И по тому, как сильно меня сейчас занимает Сезанн, я замечаю, насколько я изменился. Я на пути к тому, чтобы стать тружеником; это, должно быть, долгий путь, и я достиг лишь первого дорожного столба; тем не менее я уже могу понять старика, который ушел далеко вперед, один, не имея за собой никого, кроме детей, кидающих в него камни (как я это описал однажды в отрывке об одиноком художнике). Сегодня я снова был у его картин; поразительно, как преобразуют они все вокруг. Не глядя ни на одну из них, стоя в проходе между двумя залами, чувствуешь их присутствие, как некую колоссальную действительность. Эти краски словно раз и навсегда снимают всю твою нерешимость. Чистая совесть этих красных и синих тонов, их простая правдивость воспитывают тебя; и если отдаться им с полной готовностью, начинаешь ощущать, будто они делают для тебя что-то важное.
Раз от разу все яснее замечаешь, как было необходимо стать выше даже любви; естественно, что художник любит каждую из тех вещей, которые он создает; но если это подчеркивать, то вещь становится хуже: мы начинаем судить о ней вместо того, чтобы просто о ней сказать.
 Поль Сезанн. Мадам Сезанн в красном кресле
Поль Сезанн. Мадам Сезанн в красном кресле
Художник теряет свою беспристрастность, и лучшее из всего, любовь, остается за гранью работы, не находит в ней места, бездейственно дремлет где-то рядом: так возникает живопись настроения (которая ничем не лучше сюжетной).
Художник пишет: я люблю эту вещь, вместо того чтобы написать: вот она. Ведь каждый должен сам убедиться, любил я ее или нет. Это не нужно показывать, и иные будут даже утверждать, что о любви здесь не было речи. Так она вся без остатка расходуется в самом акте создания. Эта трата любви в анонимной работе, рождающей такие чистые вещи, быть может, еще никому так полно не удавалась, как нашему старику, и в этом ему помогли недоверчивость и брюзгливость, ставшие со временем его второй натурой. Он, конечно, уже не мог бы открыть свою любовь ни одному человеку, ибо только так он ее понимал; и с такой душевной настроенностью, усугубленной его чудачествами, Сезанн подошел и к природе: он сумел не выдать ничем свою любовь к каждому яблоку, чтобы в яблоке, написанном на холсте, дать ей жизнь навсегда.
 Поль Сезанн. Натюрморт с яблоками и апельсинами
Поль Сезанн. Натюрморт с яблоками и апельсинами
18 октября 1907 (пятница)
…Я ведь изучаю совсем не живопись (потому что чувствую себя, несмотря ни на что, неуверенным перед картинами и с трудом учусь отличать хорошие от не очень хороших и постоянно путаю ранее написанные с поздними). Но я понял, что в живописи наметился важный рубеж, и я понял это потому, что я и сам сейчас его достиг или, по меньшей мере, вплотную к нему приблизился в моей работе, должно быть, давно уже готовясь к этому событию, от которого зависит так много. Поэтому я должен беречь себя от соблазна писать о Сезанне, который, разумеется, очень заманчив для меня. Не тот — пора мне, наконец, в этом признаться, — кто воспринимает картины с такой личной точки зрения, как я, вправе о них писать, всего справедливее было бы спокойно подтвердить их реальность, не волнуясь и не видя в них ничего, кроме фактов. Но в моей жизни эта неожиданная встреча — такая, какой она была и какой сумела стать, — оказалась важным подтверждением моего пути. Снова бедняк. И какой прогресс в бедности со времен Верлена (который и сам уже был анахронизмом), написавшего в «Mon testament»: Je ne donne rien aux pauvres parce que je suis pauvre moi-meme, и который почти всем своим творчеством ожесточенно показывал, что ему нечего дать и что у него пустые руки. В последние тридцать лет у Сезанна не было для этого времени. Когда ему было показывать свои руки? Злые взгляды и так видели их, когда он шел в свою мастерскую, и бесцеремонно обнажали всю их бедность: но из его творчества мы только узнаем, какой могучей и подлинной была работа этих рук до самого конца. Работа, уже не знавшая никаких пристрастий, никаких причуд или разборчивой избалованности, до последней своей частицы взвешенная на весах бесконечно чуткой совести, работа, которая так неумолимо сводила все существующее к его цветовому смыслу, что в царстве красок оно начинало новую жизнь, без всяких воспоминаний о прошлом. Именно эта безграничная, деловая точность, не желающая ни малейшего вмешательства в чужую ей область, и делает портреты Сезанна странными и даже смешными для обычных зрителей.
 Поль Сезанн. Игроки в карты
Поль Сезанн. Игроки в карты
Они еще согласны допустить, не пытаясь, впрочем, разобраться в этом, что он изображает яблоки, апельсины, луковицы — одним только цветом (который им всегда казался лишь второстепенной подробностью живописного ремесла), но уже в пейзажах им недостает истолкования, суждения, чувства превосходства; что же касается портрета, то даже до самых буржуазных из буржуа дошел слух, что здесь требуется идейный замысел, и теперь можно обнаружить нечто подобное даже на воскрес ных фотоснимках семейств или помолвленных пар. И тут Сезанн кажется им настолько несостоятельным, что о нем даже не стоит говорить. В этом салоне он, в сущности, остался таким же одиноким, каким был и в жизни…
 Поль Сезанн. Залив в Эстак и Сен-Анри
Поль Сезанн. Залив в Эстак и Сен-Анри
Письма к молодому поэту
(Фрагменты)
***
Творения искусства всегда безмерно одиноки, и меньше всего их способна постичь критика. Лишь одна любовь может их понять и сберечь, и соблюсти к ним справедливость. – Всегда прислушивайтесь только к себе самому и к Вашему чувству, что бы не внушали Вам рецензии, предисловия и литературные споры… Каждое впечатление, каждый зародыш чувства должен созреть до конца в себе самом, во тьме, в невысказанности, в подсознании, в той области, которая для нашего разума, непостижима, и нужно смиренно и терпеливо дождаться часа, когда тебя осенит новая ясность…
Быть художником – это значит: отказаться от расчета и счета, расти, как дерево, которое не торопит своих соков и встречает вешние бури без волнений, без страха, что за ними вслед не наступит лето. Оно придет. Но придет для терпеливых, которые живут так, словно впереди у них вечность, так беззаботно-тихо и широко. Я учусь этому ежедневно, учусь в страданиях, которым я благодарен: терпение – это все!
 Поль Сезанн. Большая сосна
Поль Сезанн. Большая сосна
Роллан Р. Жизнь Микеланджело / Ромен Роллан ; пер. с фр. В. Быстров, А. Шестаков. – М.: Эксмо, 2007. – 608 с. – (Зарубежная классика).
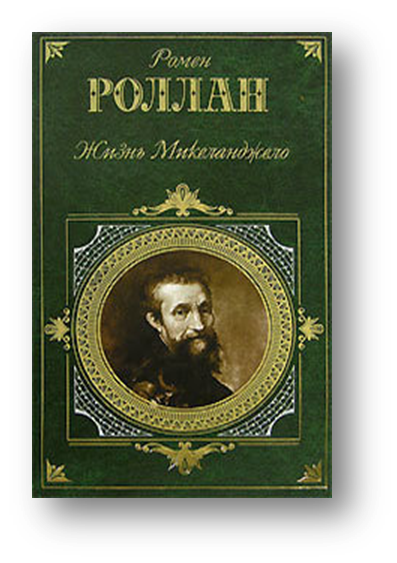
Кто создал все, тот сотворил и части -
И после выбрал лучшую из них,
Чтоб здесь явить нам чудо дел своих,
Достойное его высокой власти...
Микеланджело
Жизнь Микеланджело
…Он унаследовал все предрассудки, весь фанатизм сурового и крепкого рода Буонарроти. Пусть сам он был создан из этого земного праха. Но из праха вспыхнул огонь, очищающий все, – огонь гения.

Даниэле да Вольтерра. Портрет Микеланджело
Пусть тот, кто отрицает гений, кто не знает, что это такое, вспомнит Микеланджело. Вот человек, поистине одержимый гением. Гением, чужеродным его натуре, вторгшимся в него, как завоеватель, и державшим его в кабале. Воля тут ни при чем и почти ни при чем ум и сердце. Он горел, жил титанической жизнью, непосильной для его слабой плоти и духа.
Жил в постоянном исступлении. Страдание, причиняемое распиравшей его силой, заставляло его действовать, беспрерывно действовать, не зная ни отдыха, ни покоя.

Микеланджело. Христос, несущий Крест
«Никто так не изнурял себя работой, как я, – пишет он. – Я ни о чем другом не помышляю, как только день и ночь работать».
Жажда деятельности превращалась в своего рода манию: он взваливал на себя одну работу за другой, принимал больше заказов, чем мог выполнить. Ему уже мало было глыбы мрамора, ему требовались утесы. Задумав работу, он мог годы проводить в каменоломнях, отбирая мрамор и строя дороги для перевозки; он хотел быть всем зараз – инженером, чернорабочим, каменотесом; хотел делать все сам – воздвигать дворцы, церкви – одни, собственноручно. Он трудился как каторжный. Боясь потерять лишнюю минуту, он недоедал, недосыпал. Снова и снова в его письмах повторяется веста же жалоба:
«Я едва успеваю проглотить кусок… Не хватает времени даже поесть… Вот уже двенадцать лет, как я изнуряю свое тело непосильной работой, нуждаюсь в самом необходимом… У меня нет ни гроша за душой, я разут, раздет, терплю всяческие лишения… Я живу в нужде и лишениях… Я борюсь с нуждой…»

Микеланджело. Пророк
С нуждой воображаемой… Ибо Микеланджело был человеком состоятельным, а к концу жизни даже богатым, очень богатым. Но что давало ему богатство? Жил он бедняком, прикованным к своей работе, как кляча к мельничному жернову. Никто не мог понять, зачем он так себя истязает. Никто не понимал, что он не властен был не истязать себя, что это стало для него потребностью. Даже родной отец, у которого Микеланджело перенял многие черты характера, упрекал сына:
«Твой брат рассказал мне, что ты живешь уж очень бережливо и даже убого. Бережливость похвальна, но за убожество тебя осудят. Этот порок не угоден ни богу, ни людям. Он разрушает тело и душу. Пока ты молод, это, быть может, и не скажется, но к старости нездоровый образ жизни даст себя знать, и тебя станут одолевать болезни и немощи. Остерегайся этого. Живи скромно, но не отказывай себе в необходимом и смотри не переутомляй себя чрезмерной работой…»
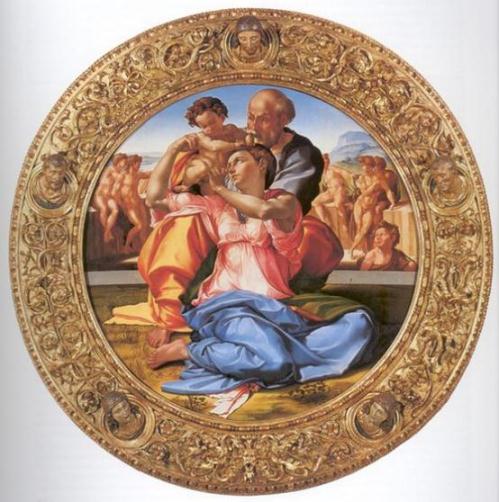
Микеланджело. Святое семейство
Но никакие советы не помогали. Микеланджело всю жизнь был безжалостен к себе. Питался он куском хлеба, запивая его глотком вина. Спал очень мало. В Болонье, где он работал над бронзовой статуей Юлия II, у него была всего одна кровать – для себя и трех своих помощников. В постель Микеланджело укладывался, не раздеваясь и не снимая обуви. Однажды у него так сильно опухли ноги, что пришлось разрезать голенища сапог, но вместе с сапогами с ног слезла и кожа.

Микеланджело. Персидская сивилла
Этот страшный образ жизни привел к тому, что Микеланджело, как и предсказывал ему отец, постоянно хворал. Судя по письмам, у него было по крайней мере пятнадцать тяжелых болезней. Его донимала лихорадка, от которой он несколько раз чуть было не скончался. Болели глаза, зубы, голова, сердце. Он страдал от невралгических болей, которые усиливались во время сна, – вообще спать было для него мукой. Он рано одряхлел. Уже в возрасте сорока двух лет Микеланджело чувствует себя стариком, а в сорок восемь пишет, что после одного дня работы должен отдыхать четыре. Притом он упорно не желал обращаться к врачам.

Микеланджело. Мадонна у лестницы
Нечеловеческий труд подтачивал не только физические, но еще в большей степени душевные силы Микеланджело. Его одолевает пессимизм – наследственный недуг Буонарроти. В молодости ему постоянно приходилось успокаивать отца, который временами, по-видимому, страдал манией преследования. Однако сам Микеланджело был болен куда серьезнее, чем тот, кого он старался ободрить. Беспрерывная работа, страшное утомление, ибо он никогда как следует не отдыхал, делали его игрушкой самых нелепых страхов, какие только могут примерещиться мнительному уму. Он опасался своих врагов. Опасался своих друзей. Опасался родственников, братьев, приемного сына: ему представлялось, что все они только и ждут его смерти.

Микеланджело. Сикстинская капелла
Все внушало ему тревогу; его вечные страхи служили даже предметом насмешек для близких. Он жил как сам говорит, «в состоянии меланхолии или, вернее сказать, безумия». Он столько страдал, что под конец даже сжился со своими страданиями и находил в них какую-то горькую усладу:
Что больше мне вредит, то больше и пленяет.
Е piu mi giova dove piu mi nuoce.
Все доставляло ему страдание – даже любовь, даже благополучие.
В печали нахожу единственную радость.
La mia allegrez' è la malmconia.
Более всего ему была присуща скорбь, менее всего радость. Только одну скорбь он видел, только одну ее чувствовал во всей безграничной вселенной.
На сотни радостей мученья одного не променяю!..
Mille piacer поп vaglion un tormeato!..
Безнадежное отчаяние, в котором было и свое величие, слышится в этом крике, вобравшем в себя всю скорбь мира.

Микеланджело. Пьета
* * *
«Необыкновенная ревностность в труде отдаляла Микеланджело от людей, почти от всякого общения с ними», – пишет Кондиви.
Он был одинок. За ненависть ему платили ненавистью, но за любовь не платили любовью. Ему дивились и боялись его. К концу жизни Микеланджело вызывал у своих современников чувство, близкое к благоговению. Он возвышался над всем своим веком. Бури улеглись. Он смотрит на людей сверху, а они на него снизу. Но он по-прежнему один. Никогда не знал он простой радости, которая дана каждому смертному, – никогда не отдыхал, согретый лаской близкого человека. Ни одна женщина по-настоящему его не любила. Лишь краткий миг в этом пустынном небе просияла холодной и чистой звездой дружеская привязанность Виттории Колонны. А вокруг мрак, прорезаемый огненными метеорами его мыслей: желаниями и безумными мечтами. Никогда Бетховен не знал такого мрака, ибо мрак этот был в самой душе Микеланджело. В печали Бетховена повинен окружавший его мир, от природы он был веселым – он тянулся к радости. А Микеланджело носил в себе ту гнетущую печаль, которая отпугивает людей и которой все поневоле сторонятся. Вокруг него неизменно создавалась пустота.

Микеланджело. Сотворениие Адама. Фрагмент
Но это было не самое страшное. Не самое страшное остаться одному. Страшно другое: остаться наедине с собой и быть с собой в разладе, не уметь подчинять себя своей воле, мучиться сомнениями, стараться побороть свою природу и только убивать себя. Гению Микеланджело дана была в спутницы душа, которая постоянно его предавала. Существует мнение, что Микеланджело преследовал злой рок, не позволявший ему завершить ни один из его великих замыслов. Этот злой рок – сам Микеланджело. Ключ к пониманию всех его несчастий, всей трагедии его жизни, – чего никогда не замечали или не осмеливались замечать, – это недостаток воли и слабость характера.
Он был нерешителен в искусстве, нерешителен в политике, нерешителен во всех своих поступках и во всех своих мыслях. Когда требовалось из двух работ, двух замыслов, двух проектов сделать выбор, он всегда колебался. Тому доказательство история памятника Юлию II, фасада церкви Сан-Лоренцо и гробниц Медичи. Он никак не может начать работать, а начав, ничего не доводит до конца.
…Он был слаб. Слабость эта порождалась и положительными качествами Микеланджело и робостью его. Он был слаб потому, что его мучила совесть художника: он терзался сомнениями, которые более решительная натура просто бы отмела. По излишней своей добросовестности он считал себя обязанным делать самые несложные работы, с которыми любой подрядчик справился бы лучше его. Ни выполнить своих обязательств, ни пренебречь ими он не умел.
…Так воздадим же ему полной мерой ту любовь, которую он искал всю жизнь и в которой ему было отказано. Он испытал величайшие несчастья, какие могут выпасть на долю человека. Он видел свою родину порабощенной. Видел Италию отданной на века иноземным варварам. Видел, как гибла свобода. Видел, как один за другим исчезали все те, кто был ему дорог. Видел, как гасли один за другим светочи искусства.
Он остался последним в сгущавшемся мраке. И на краю могилы, оглядываясь назад, он даже не мог сказать себе в утешение, что совершил все, что должен был, что в силах был совершить. Ему казалось, что он даром прожил жизнь. Напрасно жертвовал всеми радостями. Напрасно все отдал кумиру искусства.
Долгих девяносто лет он надрывался над работой, ни единого дня не отдыхал, ни единого дня не жил по-человечески и, осудив себя на такие муки, все же не осуществил ни одного из своих великих замыслов. Все самые крупные и самые дорогие ему произведения остались незаконченными. По странной прихоти судьбы, этому скульптору удавалось завершать лишь живописные работы, к которым у него никогда не лежало сердце. Из больших работ Микеланджело, с которыми было связано столько горделивых надежд и столько огорчений, одни – картон «Битва при Кашине» и бронзовая статуя Юлия II – были разрушены еще при жизни художника, другие – гробница Юлия II и капелла Медичи – явились лишь жалким подобием первоначального замысла.

Микеланджело. Капелла Медичи
…он отрекся от себя. Вместе с ним отрекалось Возрождение, гордое великолепной гордостью свободных душ, владеющих всей вселенной, отрекалось «ради любви божественной, раскинувшей руки на кресте, дабы принять нас в свое лоно».
… Volta a quell' amor divino
C'aperse a prender noi'n croce le braccia.
Из груди его не вырвался животворящий призыв «Оды к Радости». До последнего вздоха это была ода к Скорби, к Смерти-избавительнице. Итак, он был побежден.
* * *
Таков был тот, кого мир признал победителем. Мы наслаждаемся созданиями его гения, подобно тому как наслаждаемся плодами побед наших предков, забывая о пролитой крови.
Non vi si pensa
Quanto sague costa…
Пусть эту кровь увидят все, пусть взовьется над нами алый стяг героев.
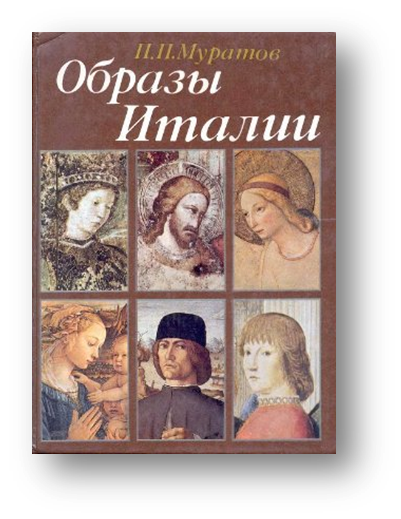
Муратов П. П. Образы Италии [Текст] / П. П. Муратов. - М.: Республика, 1994. – 592 с.
Образы Италии.
1. Венеция. Путь к Флоренции. Флоренция. Города Тосканы
Век маски
За что можно любить XVIII век? Вот вопрос, который часто приходит в голову теперь, когда проходит особое увлечение этой эпохой. В опустошенном Версале, осенью или ранней весной, есть большая гордость и печальная красота. И изумляющей нас красотой проникнуто все, что осталось от уклада той жизни. Искусство XVIII века мы всегда видим как-то вместе с жизнью, с бестелесными призраками ее, придающими всякой вещи того времени аромат живых воспоминаний. Иное дело, например, живопись голландцев, которая остается для нас просто эстетическим фактом. Она не привлекает воображения к тем людям, какие создали ее и для каких она существовала. Что касается итальянского Возрождения, то нас отделяет от него слишком большой промежуток времени. Мы слишком мало знаем о нем, иначе как из картин и книг, а может быть, память поддерживается в поколениях не столько музеем и документом, как традицией, живущей в вещах, в незаметных подробностях быта, привычек, вкусов. В нашей жизни сохранились, может быть, до сих пор какие-то следы и черточки такой традиции, восходящей к XVIII веку. Мы всегда чувствуем себя его прямыми наследниками и от этого так легко о нем вспоминаем. Нам всегда кажется, будто кто-то в нашем детстве рассказывал нам про то время, повторяя на старости лет рассказы, слышанные в своем детстве и еще не вполне забытые.

Во всяком воспоминании есть благодарность, есть убаюкивающее очарование. Прошлое одевается убором, сотканным из тончайшей душевной пряжи. Оно является воображению в особой игре света и тени, после которой слишком будничным и скучным кажется изучение его при дневном свете книжной истории. Но без такого изучения нельзя обойтись, хотя бы по одному тому, что все наши библиотеки завалены книгами того времени - они невольно попадаются под руку. Мы слишком хорошо знаем внутреннюю жизнь той эпохи, чтобы иметь возможность отрешиться от нашего знания. И не странно ли, что эта внутренняя жизнь, самая душа эпохи, кажется нам бедной, пустой, ничтожной в то самое время, когда значительным, увлекательным и великолепным представляется все, что составляло ее внешность и форму. Мы умеем любоваться превосходными виньетками, буквами и переплетами сочинений Вольтера, мы готовы, пожалуй, еще оценить его стиль, но для кого интересна сейчас сущность Вольтера, его философия и даже его esprit5? "Идеи" XVIII века кажутся нам слишком элементарными, они слишком вошли в обиход современной жизни. Они или очевидно верны, или очевидно ошибочны, и в том и в другом случае о них нечего думать. Но ведь эти идеи - гордость и лучшее достояние, как принято считать, тех самых людей, которые настраивают наше воображение на такой мечтательный лад. За идеями рисуются характеры, лица - умные, трезвые глаза, рот, искривленный намеренной саркастической усмешкой, сухой, себялюбиво замкнутый профиль. Ребяческий задор таких слов, как "торжество разума", вызывает у нас только улыбку. Но если не разум, так рассудочность в самом деле торжествовала тогда, и сколько было в этом самодовольства и ограниченности!

Тьеполо. Венеция
... В XVIII веке Италия не была погружена, как обычно думают, в апатию, - она осталась родиной художественного гения и дала миру новое искусство - музыку. Повторяя вместе с остальной Европой французские нравы и вкусы, принимая чужой покрой одежды и даже чужой покрой мыслей, Италия осталась в основе своей особенной и нисколько не похожей на Францию. Она не могла всерьез проникнуться "философией" XVIII века, не могла понять его esprit, не могла воспринять его сухой и черствой, чисто французской рассудочности. К идеям того времени она не прибавила ничего, да, кажется, из всех привозимых из-за Альп предметов идеи интересовали ее меньше всего. От этого, может быть, зрелище XVIII века нигде не представляет такой занимательности и затейливости, не омраченной никакими серьезными размышлениями и предчувствиями, как в Италии. То, что было в Париже лишь декорацией, плохо скрывавшей ход каких-то грозных исторических событий, то в Италии было действительно театральной декорацией, - декорацией оперы, комедии нравов, фантастической комедии, комедии масок. Никогда и нигде жизнь не была так похожа на театральное зрелище, как в Италии XVIII века. Что иное, как не сознание себя участником какой-то вечной комедии, разыгрываемой на улицах и площадях, в виду моря, гор и садов, заставляло итальянцев тех времен с такой страстью рядиться и с такой радостью надевать маску в дни карнавала…

Пьетро Лонги. Карнавал
XVIII век был веком маски. Но в Венеции маска стала почти что государственным учреждением, одним из последних созданий этого утратившего всякий серьезный смысл государства. С первого воскресенья в октябре и до Рождества, с 6 января и до первого дня поста, в день св. Марка, в праздник Вознесения, в день выборов дожа и других должностных лиц каждому из венецианцев было позволено носить маску. В эти дни открыты театры, это карнавал, и он длится таким образом полгода. "И пока он длится, все ходят в масках, начиная с дожа и кончая последней служанкой. В маске исполняют свои дела, защищают процессы, покупают рыбу, пишут, делают визиты. В маске можно все сказать и на все осмелиться; разрешенная Республикой маска находится под ее покровительством. Маскированным можно войти всюду: в салон, в канцелярию, в монастырь, на бал, во дворец, в Ридотто.

Пьетро Лонги. Ридотто
Это легко читать, сидя в кресле, но надо только представить себе это как следует! Никаких преград, никаких званий. Нет больше ни патриция в длинной мантии, ни носильщика, который целует ее край, ни шпиона, ни монахини, ни сбира, ни благородной дамы, ни инквизитора, ни фигляра, ни бедняка, ни иностранца. Нет ничего, кроме одного титула и одного существа, Sior Maschera..." Надо представить себе все это, - но как уйти от наших вечных деловитых будней, как вообразить целый город с полуторастатысячным населением, целый народ, охваченный таким прекрасным сумасбродством, какого никогда до тех пор не видел мир и какого, конечно, он больше никогда не увидит. Нам остается перечитать книги счастливых путешественников того времени и над страницами старинных записок вновь переживать энтузиазм Гете, де Бросса, Бекфорда и Архенгольца. Но - благодарение судьбе! - нам остается больше, чем это. Венеция XVIII века еще жива в тех ее образах, которые бережно и преданно сохранил для нас последний из ее художников, Пьетро Лонги.
В Венеции XVIII века было немало превосходных художников. Среди них были люди такого полета, как Тьеполо, такого редкого изящества, как Гварди, такой тонкости зрения, как Каналетто. Едва ли с ними может сравниться Пьетро Лонги, если рассматривать его как живописца. Он не был, что называется, большим мастером. Но никакой другой художник не сравнится с Лонги в прелести изображения венецианской жизни.

Пьетро Лонги. Танец
Здесь важно, разумеется, не то, что жанры Лонги являются неоценимым документом для истории нравов. Лонги был не только бытописателем своего времени, он был настоящим поэтом. Он верно воспроизводил то, что видел, но видел он как раз то, в чем и были выражены самые остропрелестные черты эпохи. Он чувствовал все художественные возможности, которые давала окружавшая его жизнь. Если он не был в состоянии обратить их в мастерские произведения, то это не его вина. От этого картинки не менее теплы, душисты и так неожиданно трогательны.
Лонги верно понял главный художественный "нерв" тогдашней венецианской жизни,- красоту маски. Маска является главным мотивом почти всех его картин. Самое представление о Лонги нераздельно с представлением о "баутте", об этой странно установившейся форме венецианского карнавала. "Bautta" значит вообще домино, но венецианская "баутта" подчинена изумительно строгому рисунку и строгому сочетанию двух цветов - черного и белого. В этом видна прекрасная привычка к художественному закону, и до сих пор управляющему городом черных гондол и черных платков "zendaletto". Венецианская "баутта" состояла из белой атласной маски с резким треугольным профилем и глубокими впадинами для глаз и из широкого черного плаща с черной кружевной пелериной. К маске был прикреплен кусок черного шелка, совершенно закрывавший нижнюю часть лица, шею и затылок. На голову надевалась треугольная черная шляпа, отделанная серебряным галуном. При "баутте" носили белые шелковые чулки и черные туфли с пряжками.

Пьетро Лонги. Баутта
В недавно открытых залах музея Коррер есть манекен, наряженный в полный костюм "баутты". Там собраны и другие венецианские костюмы того времени, разные принадлежности быта, курьезный театр марионеток, мебель работы знаменитого Брустолона. Там есть несколько великолепных люстр и зеркал, чудесные изделия стеклянных заводов Мурано. Так бесконечно грустно сравнивать эти произведения высокого мастерства с безвкусицей нынешних муранских стекол. Это чувство хорошо знакомо каждому, кто побывал в музее на самом острове и бродил по его пустынным залам, хранящим вещи божественной красоты рядом с доказательствами нашего убожества. Прекрасно старое муранское стекло и старое венецианское зеркало! Их хрупкая красота, - тонкий звон хрустальных подвесок люстры, матовый блеск зеркал, игра бриллиантовых искр в окаймляющих их стеклянных украшениях, - так шла к Венеции XVIII века, к ее искусству, к ее ненастоящей почти что только нарисованной жизни. Маска, свеча и зеркало - вот образ Венеции XVIII века.
Маски, свечи и зеркала - вот что постоянно встречается на картинах Пьетро Лонги. Несколько таких картин украшают новые комнаты музея Коррер, заканчивая стройность этого памятника, который Венеция воздвигла наконец своему XVIII веку. Здесь есть ряд картин, изображающих сцены в "Ридотто". Этим именем назывался открытый игорный дом, разрешенный правительством, в котором дозволено было держать банк только патрициям, но в котором всякий мог понтировать. Ридотто было настоящим центром тогдашней венецианской жизни. Здесь завязывались любовные интриги, здесь начиналась карьера авантюристов. Здесь заканчивались веселые ужины и ученые заседания. Сюда приходили после прогулки в гондоле, после театра, после часов безделья в кафе на Пьяцце, после свидания в своем казино. Сюда приходили с новой возлюбленной, чтобы испытать счастье новой четы, и часто эта возлюбленная бывала переодетой монахиней. Но кто мог бы узнать ее под таинственной "бауттой", открывавшей только руку, держащую веер, да маленькую ногу в низко срезанной туфельке. Когда в 1774 году сенат постановил наконец закрыть Ридотто, уныние охватило Венецию. "Все стали ипохондриками, - писали тогда отсюда, - купцы не торгуют, ростовщики-евреи пожелтели, как дыни, продавцы масок умирают с голода, и у разных господ, привыкших тасовать карты десять часов в сутки, окоченели руки. Положительно пороки необходимы для деятельности каждого государства".
…И все-таки лучше всего Лонги чувствует себя на улице. Венеция XVIII века дает не слишком много тем любителю домашней жизни, она вся на улице. Там никому не сидится дома. Путешественник де Бросс рассказывает, что он выходил из дома по четыре раза в день, чтобы наслаждаться зрелищем венецианской жизни. И, наверное, Лонги проводил на улице целые дни в поисках за живописными приключениями черных баутт, раздуваемых теплым морским ветром.
Маски бродят под аркадами дворца дожей, приостанавливаясь, чтобы заглянуть в домик марионеток, или рассеянно преследуя встречных женщин. Молодая дама в домино, но с открытым лицом мимоходом протягивает руку старой гадалке и с улыбкой слушает ее привычную лесть. При выходе из полутемного дворца продавщица духов предлагает свой товар проплывающим бауттам. Компания замаскированных знатных господ заходит от нечего делать в балаган кукольного театра или в палатку шарлатана. Но вот разносится новость: в Венецию привезли великана Корнелио Маграт, и маски толпятся около нового "чуда". Художник Пьетро Лонги приходит туда же и потом рисует великана, масок вокруг него и отмечает точно дату такого великого события. После великана привозят льва, после льва - носорога, после носорога - слона. Лонги рисует и льва, и слона, и носорога.

Пьетро Лонги. Носорог в Венеции
Во время своих прогулок по городу Лонги видит добрый венецианский народ. Он пишет прачек, продавщиц кренделей "чиамбелли", фурлану, исполненную под аккомпанемент бубна в каком-нибудь глухом закоулке. Ни в его картинах, ни в книгах того времени венецианский народ не кажется несчастным, обездоленным. Он как-то тоже участвует в празднике жизни. В этом глубокое отличие Венеции XVIII века от Парижа. Здесь нет таких острых общественных противоречий, и в воздухе, которым здесь дышит смешанная толпа, не разлит яд ненависти. Это чисто итальянская черта. Италия всегда была и до сих пор останется народной. Говоря о праздной и счастливой жизни в Венеции того времени, мы не должны о чем-то умалчивать, закрывать глаза на чьи-то социальные страдания. Если здесь был праздник, то этот праздник был действительно для всех. Залой его была сама улица, и бальным костюмом была общая для всех баутта. Что еще важнее, всякий мог им наслаждаться, потому что умел наслаждаться. В душе самых простых людей здесь жило такое чувство прекрасного, такой врожденный аристократизм вкусов и удовольствий, какого не знала Франция, несмотря на долгую и трудную придворную выучку. Ведь только этим можно объяснить такое создание итальянского народного гения, как комедия масок…

Пьетро Лонги. Карнавал
…В XVII веке, когда живопись уже приютилась под сень академий, когда музыка еще не отделилась от церкви и когда опера только искала будущей формы, в Италии существовало, строго говоря, одно всенародное и полное жизни искусство, - комедия масок. Она воплощала в себе весь художественный мир божественно одаренного народа. На ней искренно отдыхали люди "барокко", уставшие от бесчисленных академий, церемонных поклонов и огромных париков. Даже такой эпохе холодной парадности, как XVII век, Италия сумела найти противоядие и сумела нарушить ее молчаливую пышность пестротой и путаницей диалогов, ужимок, дурачеств, трескотней и хохотом народной комедии…
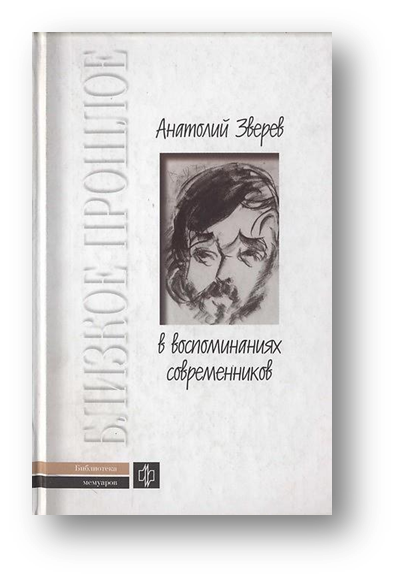
Анатолий Зверев в воспоминаниях современников / сост. Н. Шмелькова, С. Ямщиков. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 368 с. – (Близкое прошлое. Библиотека мемуаров).

А. Зверев
Наша справка:
Анатолий Зверев (1931-1986) – выдающийся русский художник-авангардист, яркий представитель нонконформистского искусства своего времени.
Пабло Пикассо называл его лучшим русским рисовальщиком.
Анатолий Зверев в воспоминаниях современников
(Фрагменты)
ВАЛЕНТИН ВОРОБЬЁВ
Он не пришел к ним до сих пор
 А. Зверев. Автопортрет
А. Зверев. Автопортрет
Зверева я обнаружил в курилке Музея изящных искусств имени Пушкина, и у меня задрожали коленки: рядом — гений! Человек с дорогой сигарой во рту пускал дым кольцами и рисовал, собирая вокруг толпы зрителей. В 1960 году, благодаря храбрости американца Александра Маршака, написавшего в «Лайфе» статью «Искусство России, которого никто не видит», напечатанную с большим цветным разворотом, весь мир узнал о существовании московского живописца Анатолия Зверева. Его разрывали на части. Зверев умел работать напоказ, по заказу, на людях и за символическую плату в сто рублей, хорошо всю жизнь его кормившую. Это были не салонные портретики «а-ля Монмартр», а взрыв дьявольского темперамента в один присест, работа-спектакль в парке, на стадионе, в кухне дворника, в квартире дипломата, на дачной веранде.
 А. Зверев. Зима
А. Зверев. Зима
Обладая совершенно нечеловеческой силой воли и гибельным гипнозом, он заставлял знаменитого дирижера Игоря Маркевича бегать за коньяком и перемывать и без того чистые стаканы. На моих глазах всемирно известный музыкант Валентин Варшавский стоял за спиной Зверева с подносом водки, в то время как художник, огрызаясь и стряхивая с себя чертей, рисовал его дочку и жену. Профессор Пинский, знавший наизусть Шекспира в подлиннике, робко прислушивался, что скажет Зверев о звучности русского перевода.
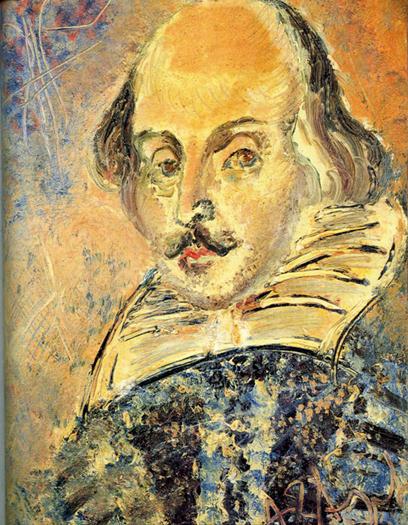 А. Зверев. Портрет Шекспира
А. Зверев. Портрет Шекспира
В декабре 1966 года, избив очередную возлюбленную, Зверев оказался в пенале моей мастерской на улице Щепкина. Этот замечательный человек, пивший до белой горячки, бивший людей по морде, постоянно рычал, шипел, визжал, плевался в окружении заступников и опекунов — от престарелых вдов до несовершеннолетних девиц, смотревших на него, как на божество. Человек деревенской складки, малообразованный, но тонко чувствовавший культуру целиком, он никуда не лез. Его отношение с государством ограничивалось общественными местами — буфет, стадион, музей, туалет, милиция. Большой любитель футбольной игры, он приходил на стадион, одетый в дорогой костюм и дорогие туфли, которые разваливались сразу от первого удара по мячу. Рождённый в подлом сословии, он до конца своих дней оставался аристократом высшей пробы — и духом, и бытом. Размах его натуры всегда был ошеломляющ. Двери лучших московских ресторанов сразу открывались настежь при его появлении. Швейцар получал червонец в зубы, гардеробщик — в лапу, официантка — за пазуху. Зверев жил одним днём, не заглядывая вперёд. Утро начиналось шампанским, день — пиршеством, а вечер — пьянкой и дракой. Всегда находились молодцы с толстыми кулаками и твёрдых правил. Они били художника до полусмерти, как самого ядовитого гада, и сдавали в милицию на очередную обработку. Свой гнев и «учение» Зверев вымещал на гражданах с зачатками человечности. Этим, не растерявшим совести, доставалось больше всего оплеух и разбитых стаканов. Граждан, не имевших совести, он старался обходить стороной. Зверев к ним не пришёл до сих пор, и они промолчали его смерть в прессе. Ни одна советская газета не обмолвилась о смерти художника…
МИХАИЛ КУЛАКОВ
Настоящее искусство «странных» личностей
Первым, кто открыл и начал пропагандировать Зверева, был Александр Александрович Румнев, бывший актёр пантомимы у Таирова («Камерный театр»), преподаватель пантомимы во ВГИКе. Румнев благотворно влиял на Зверева. Александр Александрович бескорыстно продавал зверевские гуаши в своём кругу любителей живописи, ибо ни о каком устройстве официальной выставки не могло быть и речи. Поводом к размолвкам послужил самостоятельный зверевский бизнес — сбыт собственных произведений.
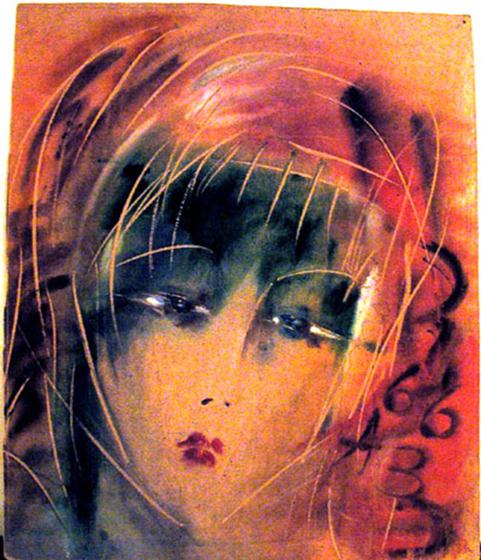 А. Зверев. Неизвестная
А. Зверев. Неизвестная
— Толя, — однажды сказал Александр Александрович. — Мне передавали, что ты продаёшь свои работы подчас за три рубля, или за два рубля полкопейки. Пуще того, за семь с половиной копеек. Что это за цена? Почему по полкопейки копеек, когда в нашей денежной системе давно нет полкопейки? Ты ставишь меня в неловкое положение — я продаю твои работы за сто — сто пятьдесят рублей, а мне говорят: как же так? Ведь Зверев продаёт дешевле, за трёшки, за пол-литра! Выходит, я спекулянт в глазах людей!
Неизвестно, что сказал на это Зверев, но с тех пор отношения между А. Румневым и Зверевым похолодали.
С этого момента начинается эра странных и сложных взаимоотношений между двумя незаурядными людьми: производителем-бычком Зверевым и коллекционером-Дионисовичем, так обозвал Г. Д. Костаки Анатоль по ассоциации с Дионисием, в другой раз — Георгием Победоносцем. О страстях «Дионисия» особая статья, роман, который начинается в голубых далях юности. Роман о том, как страсти Георгия, начавшиеся с собирания ковров, со временем реализуются в современный музей русского авангарда 20-х годов, коллекция, исключительная по значению и качеству в мировом масштабе. По словам Зверева, хотите — верьте, хотите — нет, в 1957 году на даче у «Дионисия» в Баковке, в течение одного-двух месяцев он написал тьму работ, иногда делая до сотни акварелей и гуашей в день, съедая жареную курочку и запивая пол-литрой водочки.
— Кстати, как попала твоя работа в музей Гугенхайма? Не через Костаки? Кажется, он говорил, что подарил её главному хранителю музея, когда тот был у него в гостях на квартире.
А. Т. Зверев как художник известен в Европе и Америке. Во многих музеях мира висят его работы. Как художник и личность, он известен в Москве и Ленинграде.
 А. Зверев. Мадонна
А. Зверев. Мадонна
В 1965 году дирижёр Игорь Борисович Маркевич устроил выставку работ Зверева в Копенгагене, Женеве и Париже. Выставка-продажа имела коммерческий успех. С большими трудами удалось перевести через международный банк деньги на чужое имя, ибо Зверю, с его внешними данными, не попасть бы на территорию Международного банка в Москве. Зверь не разбогател. Отнюдь. Был и остался люмпеном, ибо все заработки — а они бывали немалыми в категориях советского обывателя — тратились на бегство от одиночества, санитаров с красными крестами и от милиции.
* * *
Зверь лил краску на холст или бумагу, кидал шматы масляной краски, разбрызгивая колера кляксами. Бой. Чем быстрее темп разбрызгивания, тем веселее. Узоры составляют лицо, дерево, небо, землю, кладбище, Голгофу, лодочку, следующую по всем изгибам реки, как ветка, несомая в никуда, дутые купола падающих храмов, серию портретов.
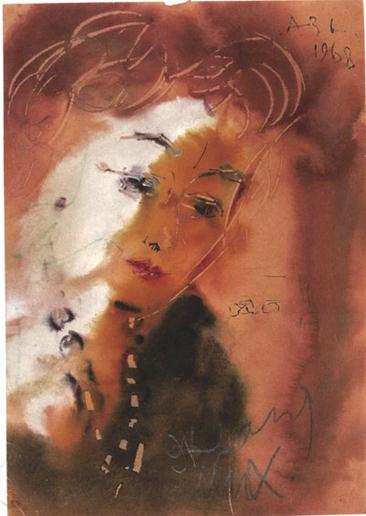 А. Зверев. О. Асеева
А. Зверев. О. Асеева
Особенно ему в те золотые сперматические годы удаются автопортреты: Зверев с отрезанным ухом под Ван Гога, Зверев в соломенной шляпе с одним глазом, с усами, без усов, с бутылкой. Зверь с папироской.
 А. Зверев. Автопортрет
А. Зверев. Автопортрет
Из узоров же составляются натюрморты, в которых участвуют предметы, окружающие быт и нравы маэстро. Наконец, он пишет простые узоры, ничего не составляющие, просто красивые абстрактные пятна, где каждая клякса — мир творчества и гармонии, вернее, живопись, писомания.

— Однажды с пьяных глаз поддал флакон чёрной туши под зад и… Олля-ля! На обоях образовалась чудо-клякса. Клякса ещё не успела растечься вниз на пол, когда я в падении, как солдат в окопах под обстрелом, успел подписать кляксу — АЗ-58. Я вас — вашу мать — обучаю мудрости и спасаю мир! Анархия — мать порядка!
 А. Зверев. Китайский танцор
А. Зверев. Китайский танцор
* * *
Природа души и духа сотворена таким образом, что на пути к самовыражению расставлены рогатки и самоограничения, действующие до тех пор, пока ты не укрепился в воле и внутренних силах. Мало людей в истории человечества в земной жизни достигли истинной цели, то есть Царствия Божия в самом себе. Ты можешь только одно, если тебе отпущен Дар (а он отпущен практически каждому): реализовать Дар в категориях искусства, культуры. Тайна Зверя — тайна его Дара, его гения, подаренного клошару.
Одной работой не обойдешься, чтобы иметь представление о творчестве Зверева, необходимо просмотреть не одну, две, десять, а сто работ в сериях, где образы церкви, дерева, лошади, пятна кадрируются на протяжении ста-двухсот гуашей, акварелей, холстов.
 А. Зверев. Женский портрет
А. Зверев. Женский портрет
Его серии «Голгофа», «Зимний пейзаж», «Женские головки» и многие другие — дневники судорожной игры ума, божественной интуиции, в долю секунды приводящей к видимым результатам на бумаге, картоне, стене, холсте, колене, груди. То, к чему Зверев прикоснулся краской, пеплом, чернилами, плевком, он относится как к своему пространству, где живут и гуляют свои вещи, наподобие собачки, метящей каждый попадающийся столб или дерево. И Зверев везде хочет застолбить СВОЕ пространство меткой АЗ такого-то года. Зверь не нужен обществу. Иногда приятно повесить его петуха или цветочки в гостиную. Красиво? Красиво. Но сам Зверь пропади пропадом.
***
За 20 лет «творческой деятельности» созданы миллионы работ. Большая часть погибла за ненадобностью. Материалы, с которыми обычно имеет дело маэстро — бумага, тушь, вода, — недолговечны, нужны усилия для фиксации таких, например, фактур, как пепел, который он сыпал неоднократно в ряд работ по-сырому без всякого закрепления.


А. Зверев. Дон Кихот
Пепел ему нравился, возможно, как серый материал, который обобщал яркие краски, но и как хеппинговый жест, осмысляемый впоследствии другими, что пепел символ тлена и суеты сует. Настоящее искусство «странных» личностей не нужно человеку, народу, человечеству.
Дай Бог тебе здоровья, Анатолий Тимофеевич Зверев!
ВЛАДИСЛАВ ШУМСКИЙ
Магический Анатолий Зверев
…«Человечество вечно суетится, пока у него есть время… Но иногда кому-то из нас удаётся остановить наше неугомонное и ненасытное в делах суеты внимание. И тогда мы оказываемся во власти живописи. Она прекрасна, как сказочная принцесса… через сновидения, в коих часто неимущий получает во сто крат больше имущего… А после всё это воспринимается лично самим, но уже ничтожно по сравнению с подобными сновидениями, словно во мраке роковой неизбежности и безумия».
 А. Зверев. Женский портрет
А. Зверев. Женский портрет
«Кисть в руках художника должна быть такой же послушной, как лошадь у хорошего извозчика» (вспомним шедшую ещё из раннего детства Зверева любовь к лошадям).
«Истинное искусство должно быть свободным, хотя это и очень трудно, потому что жизнь скованна…»

А. Зверев. Березы
На мой взгляд, Зверев был самым свободолюбивым человеком на земле. Он ценил свободу больше всего на свете и никогда ей не изменял, ни к кому и ни к чему не приспосабливаясь в смысле унижения и утраты хоть капли свободы. Отсюда и его образ жизни, в котором царила свобода и никакого комфорта. Быт, удобства не занимали в жизни Зверева даже последнего места — они не занимали никакого.
Насколько понимаю, наступили времена, когда многие у нас в стране открыли и открывают для себя художника А.Т. Зверева. Это и есть культурное обогащение. Зверев вошёл в историю культуры, то есть в историю вообще, через её парадные двери — и стал художником с мировым признанием. И если его имени ещё нет в наших справочных изданиях, вход в которые открывает не всегда талант, а качества иные, более низкие (например, звание, должность, связи, а то и просто подкуп в той или иной форме), то оно давно занимает своё место в крупнейших энциклопедиях мира.
 А. Зверев. Женский портрет
А. Зверев. Женский портрет
Выставки Зверева имели место в ведущих галереях Франции, ФРГ, США, Дании, Швейцарии, Австрии, Англии, Италии. Всего же в странах Запада он выставлялся десятки раз. Это в несколько раз больше, чем в Советском Союзе. Как всё-таки трудно пробиваться в нынешней России русским дарованиям! Сколько раз уже бывало, что к выдающимся, даже гениальным русским людям слава шла не столько с родины, сколько извне.
Крупный, российский по происхождению и живший во Франции искусствовед В. Вейдле, посетив выставку Зверева в 1965 году в Париже, в книге посетителей написал: «Нет, слава Богу, русская живопись не умерла».
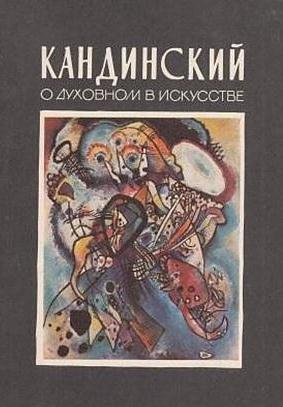
Кандинский В. О духовном в искусстве (живопись) / Василий Кандинский. – Л.: Ленинградская галерея, 1994. – 68 с. – (Из архива русского авангарда).
О духовном в искусстве
(Фрагменты)
Истинное произведение искусства возникает таинственным, загадочным, мистическим образом "из художника".
Отделившись от него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личностью, самостоятельным, духовно дышащим субъектом, ведущим также и материально реальную жизнь; оно является существом.

В. Кандинский. Синий всадник
Итак, оно не есть безразлично и случайно возникшее явление, пребывающее безразлично в духовной жизни: оно, как каждое существо, обладает дальнейшими созидательными, активными силами. Оно живет, действует и участвует в созидании духовной атмосферы, о которой мы говорили.
Исключительное этой внутренней точки зрения следует решать и вопрос: хорошо ли данное произведение или плохо. Если оно "плохо" по форме или слишком слабо, то значит плоха или слишком слаба данная форма и поэтому не может вызывать каких бы то ни было чистых звучащих душевных вибраций.
 |  |
| Композиция | Красочный ансамбль |
Скольжение нашего взора по покрытой красками палитре приводит к двум главным результатам: 1) осуществляется чисто физическое воздействие цвета, когда глаз очарован его красотой и другими его свойствами. Зритель испытывает чувство удовлетворения, радости, подобно гастроному с лакомым куском во рту. Или же глаз испытывает раздражение, какое мы ощущаем от острого блюда. Эти ощущения затем угасают или утихают, как бывает, когда коснешься пальцем куска льда. Во всяком случае все эти ощущения физические и, как таковые они непродолжительны. Они также поверхностны и не оставляют после себя никакого длительного впечатления, если душа закрыта. Как при прикосновении ко льду можно испытать только ощущение физического холода, и это ощущение забывается при согревании пальца, так забывается и физическое действие цвета, когда от него отвернешься. Но как физическое ощущение ледяного холода, если оно проникает глубже, вызывает более глубокие чувства и может вызвать целую цепь психических переживаний, так же и поверхностное впечатление от цвета может развиться в переживание.

В. Кандинский. Зимний пейзаж
Только привычные предметы действуют на средне впечатлительного человека совершенно поверхностно. Но, если мы видим их впервые, то они сразу производят на нас глубокое впечатление: так переживает мир ребенок, для которого каждый предмет является новым. Он видит свет, который привлекает его, хочет схватить его, обжигает пальцы и начинает бояться огня и уважать его. Затем он узнает, что свет, кроме враждебной стороны, имеет и дружескую, что свет прогоняет темноту, удлиняет день, что он может греть, варить и являться веселым зрелищем. После того, как собран этот опыт, знакомство со светом завершено и познания о нем накоплены в мозгу. Острый, интенсивный интерес исчезает, и свойство огня быть зрелищем вступает в борьбу с полным к нему равнодушием. И так, постепенно, мир лишается своих чар. Мы знаем, что деревья дают тень, что лошади могут быстро бегать, а автомобили движутся еще быстрее, что собаки кусаются, что до луны далеко, что человек в зеркале - не настоящий.
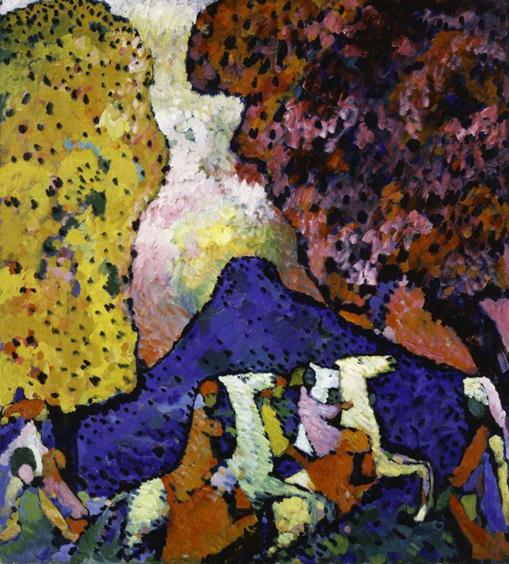
В. Кандинский. Синяя гора
И лишь при более высоком развитии человека всегда расширяется круг свойств, несущих в себе различные вещи и сущности. При таком более высоком развитии существа и предметы получают внутреннюю ценность и, в конце концов, начинают внутренне звучать. Так же обстоит дело и с цветом. При низкой душевной восприимчивости, он может вызвать лишь поверхностное действие, которое исчезает вскоре после того, как прекратилось раздражение. Но и в этом состоянии это простейшее воздействие может иметь различный характер. Глаз больше и сильнее привлекается светлыми красками, а еще сильнее и больше более светлыми и теплыми тонами: киноварь притягивает и манит нас, как огонь, на который человек всегда готов жадно смотреть.

В. Кандинский. Прогулка
От яркого лимонно-желтого глазу через некоторое время больно, как уху от высокого звука трубы. Глаз становится беспокойным, не выдерживает долго вида этого цвета и ищет углубления и покоя в синем или зеленом. При более высоком развитии это элементарное действие переходит в более глубокое впечатление, сильно действующее на душу.

В. Кандинский. Святой Георгий и дракон
2) Тогда налицо второй главный результат наблюдения - психическое воздействие цвета. В этом случае обнаруживается психическая сила краски, она вызывает душевную вибрацию. Так первоначальная элементарная физическая сила становится путем, на котором цвет доходит до души. Является ли это второе воздействие действительно прямым, как можно было бы предположить из сказанного,- или же достигается путем ассоциаций, это остается, возможно, под вопросом. Так как душа в общем крепко связана с телом, то возможно, что душевное сильное переживание путем ассоциации вызывает другое, ей соответствующее. Например, красный цвет может вызвать душевную вибрацию, подобную той, какую вызывает огонь, так как красный цвет есть в то же время цвет огня. Теплый красный цвет действует возбуждающим образом; такой цвет может усилиться до болезненной мучительной степени, может быть, также и вследствие его сходства с текущей кровью. Красный цвет в этом случае пробуждает воспоминание о другом физическом факторе, который безусловно болезненным образом действует на душу.

В. Кандинский. Импровизация № 6
Если бы дело обстояло так, то мы легко могли бы в ассоциациях найти объяснение и другим психическим воздействиям цвета, воздействиям не только на орган зрения, но и на другие органы чувств. Можно было бы, например, предположить, что светло-желтый цвет путем ассоциации с лимоном вызывает впечатление чего-то кислого.

В. Кандинский. Композиция
Но подобными объяснениями едва ли можно удовлетвориться. Именно там, где вопрос касается вкуса цвета, можно привести различные примеры, где это объяснение не может быть принято. Один дрезденский врач рассказывает об одном из своих пациентов, которого он характеризует как "духовно необычайно высоко стоящего" человека, что тот неизменно и безошибочно ощущал "синим" вкус одного соуса, т.е. ощущал его как синий цвет.
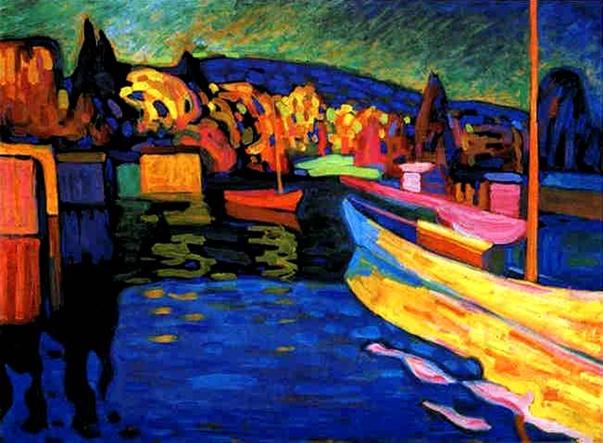
В. Кандинский. Осенний пейзаж
Можно было бы, пожалуй, принять похожее, но все же иное, объяснение, что как раз у высокоразвитого человека пути к душе настолько прямы и впечатления приходят так быстро, что воздействие, идущее через вкус, тотчас же достигает души и вызывает созвучие соответствующих путей, ведущих из души к другим телесным органам, - в нашем случае к глазу. Это было бы как эхо или отзвук музыкальных инструментов, когда они без прикосновения к ним созвучат с другим инструментом, испытавшим непосредственное прикосновение. Такие сильно сенситивные люди подобны хорошей наигранной скрипке, которая вибрирует всеми своими частями и фибрами при каждом касании смычка.

В. Кандинский. Амазонка в горах
Если принять это объяснение, то зрение, разумеется, должно быть связано не только со вкусом, но и со всеми остальными органами чувств. Так именно и обстоит дело. Некоторые цвета могут производить впечатление чего-то неровного, колючего, в то время как другие могут восприниматься как что-то гладкое, бархатистое, так что их хочется погладить (темный ультрамарин, зеленая окись хрома, краплак). Само различие между холодными и теплыми тонами красок основано на этом восприятии.
Имеются такие краски, кажущиеся мягкими (краплак). и другие, которые всегда кажутся жесткими (зеленый кобальт, зелено-синяя окись), так что свежевыжатая из тюбика краска может быть принята за высохшую.

В. Кандинский. Прощание
Выражение, что краски "благоухают" - общеизвестно.
Наконец, понятие слышания красок настолько точно, что не найдется, пожалуй, человека, который попытался бы передать впечатление от ярко-желтого цвета на басовых клавишах фортепиано или сравнивал бы краплак со звуками сопрано.

В. Кандинский. В голубом
Это объяснение всего путем ассоциации в некоторых, особенно важных для нас, случаях оказывается все же недостаточным. Слышавший о хромотерапии знает, что цветной цвет совершенно особенным образом влияет на тело человека. Неоднократно делались попытки использовать и применять силу цвета при различных нервных заболеваниях, причем снова замечено было, что красный цвет живительно, возбуждающе действовал на сердце и что, напротив того, синий цвет может привести к временному параличу. Если подобного рода влияние можно наблюдать и на животных и даже на растениях - что практически и происходит, то объяснение путем ассоциации отпадает совершенно. Во всяком случае, эти факты доказывают, что краски таят в себе мало исследованную, но огромную силу, которая может влиять на все тело, на весь физический организм человека.
Но, если в данном случае объяснение, путем ассоциации представляется нам недостаточным, то мы не можем удовлетвориться им и для объяснения влияния цвета на психику. Вообще цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет - это клавиш; глаз - молоточек; душа – многострунный рояль.

В. Кандинский. Импровизация
Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу.
Таким образом ясно, что гармония красок может основываться только на принципе целесообразного затрагивания человеческой души.
Эту основу следует назвать принципом внутренней необходимости.
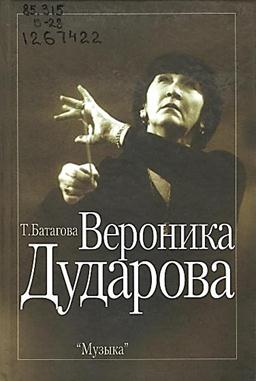
Батагова Т. Вероника Дударова / Т. Батагова. – М. : Музыка, 2001. – 198 с. : ил.
На титульном листе книги два автографа – дирижера Вероники Дударовой и автора Татьяны Батаговой
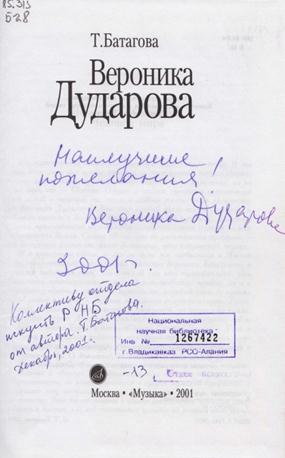

Прометеево пламя
Этюд к портрету
Огонь очистительный.
Огонь роковой,
Красивый, властительный,
Блестящий, живой!
...Проворный, веселый и страстный,
Так победно-прекрасный...
Вездесущий Огонь, я тебе посвятил
все мечты,
Я такой же, как ты.
О, ты светишь, ты греешь, ты жжешь,
Ты живешь, ты живешь!
К. Бальмонт. «Гимн огню»
Мощной, неподвластной человеку стихией звучит музыка. Звуки накатываются грандиозными космическими волнами, вспыхивают стоцветием красок, обжигают пожаром чувств. Оркестр, хор и орган перекликаются музыкой небесных планет, фортепиано парит мятежно-героическим духом. В Большом зале Московской консерватории исполняется «Прометей» Скрябина, одно из самых необычайных и грандиозных сочинений русской музыки XX века.
Со сцены льются потоки удивительной музыки. Океан эмоций то замирает нежностью и истомой, то бушует героическими порывами, то ликует экстатической радостью, то вздымает валы ураганного гнева. Вспыхивают звездные искры, переливаются огненные струи и сполохи. В воображении проносятся картины библейской и греческой мифологии — космогонические сюжеты превращения хаоса в космос, отделения света от тьмы, сотворения мира и человека, героические сюжеты борьбы Титанов с Богами. И наконец перед мысленным взором вырастает колоссальная фигура Прометея, во всем величии его духовных и интеллектуальных сил. Прометея — не дерзкого героя, титана-богоборца, а Творца, Демиурга, Прометея, каким его мыслил Скрябин. «Прометей, — писал композитор, — есть символ... Это активная энергия вселенной, творческий принцип, это — огонь, свет, жизнь, борьба, усилие, мысль».
Осуществляет постановку «Прометея», превращая концерт в феерию, Вероника Дударова. Она и сама сейчас как Прометей, воспламеняющий божественным огнем музыкантов и слушателей. Сокровенное, зашифрованное композитором в нотах пламя вспыхивает и ярко горит в руках дирижера-Прометея.
«Огненный дирижер!» — так любят называть Веронику Дударову журналисты. Найденный кем-то меткий эпитет кочует из статьи в статью, не превращаясь, однако, в штамп. Огненность, пламенность — это действительно органичная черта Дударовой-дирижера. Это и ее колоссальный артистический темперамент, и необыкновенная способность зажигать других. Это и ее постоянное духовное и творческое горение. И непрерывный поиск. И бесконечный возвышенный труд. Огненность — это и созидательная сила, и гордый Прометеев дух Маэстро.
Вероника Дударова отлично помнит тот день, когда впервые ощутила всю силу обжигающего творческого огня. Студентка Ленинградского музыкального училища, она пришла в Большой зал Ленинградской филармонии на концерт Заслуженного коллектива РСФСР, Ленинградского академического симфонического оркестра. Исполнялась «Поэма экстаза» Скрябина, дирижировал А. Мелик-Пашаев. Музыка поразила грандиозностью и героическим пафосом. В душе Вероники Дударовой, сидевшей в зале, разгорелся настоящий пожар. Оркестровые звуки окрыляли; сильнее чем прежде захотелось дирижировать самой. В который раз девушка услышала свой собственный, внутренний оркестр. В который раз захотелось самой исполнить произведения Скрябина и Моцарта, Чайковского и Бетховена так, как слышала их только она. Теперь, после концерта, Вероника почти наверняка знала, что будет стоять за дирижерским пультом.
Прошло немного времени — пять консерваторских студенческих лет, и мечта сбылась. Вероника Дударова стала дирижером. Огонь творчества, разгораясь все сильнее, помогал одолевать преграды и воплощать задуманное, освещал неторные дороги «от капельмейстерства к дирижированию», от профессионализма к мастерству, от мастерства к совершенству. Огонь превратился в победно-прекрасное Прометеево пламя, так отличающее Веронику Дударову от других дирижеров.

Окрыленная мечтой
(Фрагменты)
По-разному рождается и воплощается мечта. Для кого-то мечта с детства становится путеводной звездой, освещающей весь жизненный путь. Другой завоевывает ее словно неприступную горную вершину, сначала долго готовясь к восхождению, а затем медленно и упорно, на пределе сил поднимаясь к немыслимым высям.
Но бывает и так, что человек даже себе долго не признается в заветном желании, как будто не подозревает об истинном своем призвании. Трепетная мечта живет в самых сокровенных тайниках души и, словно фантастический талисман, сказочная бусина желаний цыкурайы фаердыг, прячется от чужих глаз. Но и такой обладатель бесценного дара рано или поздно делится своим состоянием, воплощая в жизнь заветную мечту.
Казалось, Вероника Дударова не мечтала стать дирижером. В детстве она с увлечением танцевала, пела, учила иностранные языки, играла на рояле.
 Вероника в детской балетной школе
Вероника в детской балетной школе
…Когда стало ясно, что музыка — ее стихия, стала учиться игре на фортепиано, сначала в группе одаренных детей при Азербайджанской консерватории, затем в Бакинском музыкальном техникуме и Ленинградском музыкальном училище. В консерватории Вероника тоже намеревалась учиться искусству фортепианной игры. Будучи студенткой, успела поработать концертмейстером. Но когда пришло время поступать в консерваторию, документы отнесла на отделение симфонического дирижирования.
Что же, решение стать дирижером пришло к Веронике вдруг, неожиданно? Конечно, нет. Оно зрело долго, исподволь все школьные и студенческие годы, и в 23 года девушка уже точно знала, что хочет работать с симфоническим оркестром. Некоторые колебания у Вероники, правда, были. Ведь ей прочили успешную пианистическую карьеру. Стоило ли этим пренебрегать? С другой стороны, понятие «женщина- дирижер» в те годы было едва ли не условным. Женщины, выступавшие в качестве симфонических дирижеров, как правило, обладали двумя-тремя основными музыкальными специальностями. Например, Н. Буланже была в первую очередь композитором, педагогом, органисткой, Э. Легинска — пианисткой и композитором. Большинство женщин, мечтавших о симфоническом дирижировании и даже посещавших специальные классы в консерватории, как, например, пианистка М. Юдина, дирижерами так и не стали. Нужна была абсолютная убежденность в своем призвании и даже отвага, чтобы дерзнуть сделать дирижирование профессией.
Вероника Дударова в глубине души была уверена в том, что родилась дирижером. Веря в свой дар, Вероника решила реализовать его, несмотря ни на что. Судьба об этом тоже заботилась и дарила ситуации, встречи, впечатления, которые расшифровывались, как меты, знаки-напоминания жизненного предназначения.
Вероника Дударова родилась в Баку в семье инженера нефтяных промыслов А. К. Дударова… Солнечный южный город, пестрый, многонациональный, красочный, был напоен музыкой…
События музыкально-театральной жизни города — концерты, гастроли, оперные премьеры — были неотъемлемой частью жизни бакинской интеллигенции. Еще живы были традиции любительского исполнительства и домашнего музицирования, дань которым отдавали и в семье Дударовых. Отец — Асламбек Камбулатович Дударов — был, безусловно, человеком одаренным. Инженер, получивший образование в Петроградском технологическом институте, он очень любил музыку, искусство. Асламбек Камбулатович обладал прекрасным слухом, замечательной памятью. Веронике с детства запомнились семейные посещения концертов, оперных спектаклей, цирковых представлений, после которых отец абсолютно точно напевал, а чаще насвистывал полюбившиеся мелодии.

Семья Дударовых: Елена Даниловна Тускаева, Асламбек Камбулатович Дударов, Вероника (первая слева), Аматхан, Тамара
Сестра Асламбека Фатима была прекрасной гармонисткой. Она знала и виртуозно исполняла на национальном инструменте огромное количество осетинских народных песенных и танцевальных мелодий. Хорошо пела Зарифа — двоюродная сестра Вероники по материнской линии. Две старшие дочери Дударовых, сестры Вероники Тамара и Аматхан неплохо играли на фортепиано. Их игра звучала в доме ежедневно и стала привычной для младшей Малексимы, как звали в детстве Веронику. (Имя Малексима девочка получила при рождении, после крещения стала Вероникой.) Не была лишена музыкальных пристрастий и мать Вероники — Елена Даниловна Дударова, урожденная Тускаева.
Не случайно всем трем дочерям она сочла необходимым дать музыкальное образование. Красивая, с запоминающейся благородной внешностью, женственная и мягкая, она обладала в то же время сильным и независимым характером, была от природы гармоничной натурой. Всю себя Елена Даниловна отдавала семье, заботилась о воспитании дочерей, поддерживала тепло и уют в доме.

Братья Елены Даниловны Бедта (Петр) Тускаев и Джимо (Александр) Тускаев были известными среди осетинского казачества офицерами.
Джимо Тускаев, начинал свой воинский путь в 1-м Горско-Моздокском казачьем полку, затем служил в охране вдовствующей императрицы Марии Федоровны, позднее — в Личном конвое императора Николая II (1902—1910). В 1910—1912 годах Александр Тускаев командовал сотней Собственного Его Императорского Величества конвоя, в 1912—1916 — 1-м Волжским полком Терской Казачьей армии, в 1916 — 2-м Сунженско-Владикавказским казачьим полком.
***
Дударовы жили открыто и гостеприимно. Среди друзей семьи были представители разнонациональной бакинской интеллигенции, в том числе и осетинской. Частым гостем в доме Дударовых был Борис Александрович Галаев (Аслан-Гирей Галати) — известный впоследствии осетинский композитор, земляк Елены Даниловны, родившийся, как и она, в станице Черноярской. Бакинские годы — 1925—1927 — стали переломными в жизни Галаева. Бывший кадровый военный, недавно демобилизованный из рядов Красной Армии, Борис Александрович мечтал о профессиональной карьере музыканта. Галаев был влюблен в музыку, сочинял, но решиться на крутой жизненный поворот ему в 37 лет было непросто. В тот момент очень помогла поддержка друзей, тех, кто слушал его игру и импровизации на рояле на вечерах у Дударовых. Желание стать композитором превратилось в убеждение во многом благодаря участию Асламбека Дударова.
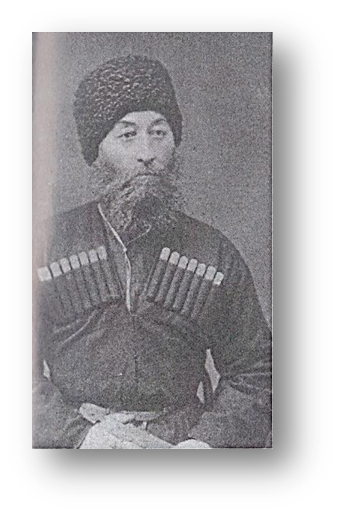
Даниил Тускаев, дед Вероники Дударовой
Осенью 1927 года Б. Галаев отправился в Ленинград и поступил в Центральный музыкальный техникум, окончательно определив свою судьбу. Впоследствии Б. Галаев стал одним из основоположников национального музыкального искусства, человеком, внесшим огромный вклад в становление и развитие осетинской культуры.
С детства окруженная музыкальной атмосферой, Вероника очень рано и ярко сумела проявить свою одаренность. Ей нравилось слушать сестер и гостей, музицирующих у рояля, но еще больше нравилось выступать самой. Крохотная певица артистично и с удовольствием исполняла цыганские романсы, услышанные от старшей сестры, доставляя слушателям немало веселья и радости…
… Быть может, уже тогда на листе судьбы маленькой девочки, отличавшейся необыкновенной музыкальностью и сильным характером, начал проявляться дирижерский силуэт?
***
…Она снова поднимает палочку. Мелькают в фантастическом танце руки. Щедрый дударовский жест необычайно эмоционален, выразителен, пластичен и в то же время предельно точен…


Волкова П. Мост через бездну. Мистики и гуманисты / Паола Волкова. – М. : АСТ, 2015. – 416 с.
Мост через бездну. Мистики и гуманисты
Глава 1
«Primavera»
Прекрасный сон Сандро Боттичелли
(Фрагменты)
…«Весна» – вещь очень многозначительная. Она очень личная, потому что она населена любимыми, дорогими, незабвенными тенями. И она не похожа на другие картины Возрождения, потому что вообще художники эпохи Возрождения – повествователи, они очень любят рассказывать. Конечно, сюжетами для их картин служат Священное Писание или античный миф, ведь это эпоха Возрождения, для которой так много значит античность: античные авторы, античный миф, пребывание внутри античного сознания…
… Художники эпохи Возрождения рассказывали старые истории на новый лад. Они были настоящими авангардистами, потому что они открыли не только язык нового искусства, но еще и новые способы повествования. Они сами делали себя героями и участниками этой мифологии, они себя чувствовали настоящими героями. Не случайно Давид поставлен Микеланджело в 1504 году на площади Флоренции, он знаменует, что такое человек Возрождения как герой.

«Весна» («Primavera»)
Боттичелли совершенно другой. У Боттичелли нет этого героизма. Боттичелли – дегероизированный художник. В нем абсолютно никогда нет чувства мышцы и победы. В нем есть образ любви и поражения. «Primavera» – картина действительно необыкновенная, потому что, когда вы ее видите в Уффици, вы не верите своим глазам – такая это красота. Это очень красивые картины: и «Рождение Венеры», и «Primavera». Не случайно они так растиражированы, не случайно они так размножены, это красота на все времена. XX век обожает эту красоту, это красота особая, немного ущербная. «Primavera» не написана как повествование. Художники эпохи Возрождения показывали драматургию происходящих событий, взаимодействие героев у Боттичелли ничего этого нет. Герои как бы рассеяны по полю картины, они как бы разделены на группы, вовсе между собой не контактирующие. Они как бы тени в каком-то заколдованном лесу, и ни одна из этих теней не касается другой, хотя они и разбиты на группы.
Существует такое представление, что «Primavera» написана по «Метаморфозам» Овидия, но существует и другая версия. Поэт Анджело Полициано написал поэму «Турнир», в которой он воспел любовь Джулиано Медичи и Симонетты Веспуччи.
 Симонетта Веспуччи
Симонетта Веспуччи
Он нам в поэме «Турнир» рассказал всю эту историю, и не нужен никакой Вазари, не нужны ни слухи, ни сплетни – есть поэма, в которой эта история описана. Поэту Анджело Полициано принадлежит как бы гимн героям Возрождения. Мы дети primavera, мы дети весны. В слове primavera есть не только знак весны как любви. Это как в замечательных стихах Ахматовой:
А там, где сочиняют сны,
Обоим – разных не хватило,
Мы видели один, но сила
Была в нем как приход весны.
Это соединение темы любви, которая есть в этой картине, с темой весны. Но здесь есть и другая тема – тема Полициано, который написал гимн горшечников: мы дети primavera, мы дети весны. Люди эпохи Возрождения мыслили себя исторически, у них было совершенно другое сознание, чем у людей Средних веков. И именно потому, что они мыслили себя исторически, они вдруг начали друг другу писать письма, начали писать мемуары, воспоминания. Чего стоят только воспоминания Бенвенуто Челлини! Не будем говорить о том, сколько он там наврал, но он написал эти мемуары. Они переписывались, существует переписка, они стали писать и писать очень много. А что значит писать? Писать о себе. Они стали себя осознавать, они стали осознавать себя исторически…
… дети «Primavera» – это дети весны, это жизнь заново.
…Картину «Primavera» можно прочитать в нескольких совершенно разных вариантах. Она вообще всегда читается справа налево. Вот, с правой стороны группа из трех фигур. Это холодный ветер – Борей, он хватает руками нимфу Хлою, и у нимфы Хлои изо рта свешивается веточка хмеля. Когда вы подходите к картине, вы поражаетесь тому, что эта ветка хмеля у нее во рту написана так, как будто он ее списывал из ботанического атласа, она совершенно точно соответствует ботаническому виду. Хмель варили, когда все зацветает, это означало, что пришла весна. Появляется эта весна, эти дети нового цикла, дети нового времени, дети новой эпохи, дети primavera.

Боттичелли пишет эту картину как свой бесконечно повторяющийся сон об утрате. Он пишет ее и как человек своего времени. Вся эта картина Боттичелли написана так, как в его время художники не писали. И дело не в том, что она лишена «квадратного» содержания, то есть повествовательности, она очень метафизична. Дело в том, что принцип художественной организации пространства очень необычен. Она написана музыкально, ритмически, весь ее строй музыкально ритмичный или поэтичный очень, а если посмотреть на эту картину, то вся композиция читается справа налево, как музыкальная тема. Три фигуры справа, которые составляют аккорд. Две вместе – ветер Борей и Хлоя. И третья нота, отделяющаяся от них, – Primavera, Весна.

Пауза, цезура. Фигура, стоящая отдельно, совершенно отдельно, такой одинокий голос. Над ней царит Купидон – маленький беспощадный бог, конечно же, слепой. Он не ведает, в кого и как он попадет.

Но вместе с тем в ней есть такая хрупкость, в ней есть такая зябкость, что она вовсе не похожа на победительницу Венеру, а скорее на Мадонну, возможно, на готическую Мадонну. И она делает странный жест рукой, как толчок, и как бы от этого толчка вдруг еще левее от нее – знаменитый танец трех граций, которые кружатся в этом лесу. Их расшифровывают как трактаты любви, которые приписываются Пико делла Мирандола, философу: любовь – это любовь земная, любовь небесная, любовь-мудрость. И одна без другой не существует. Эти три грации тоже сцеплены с собой. Любовь земная и любовь небесная в сплетении противопоставлены мудрости, мудрость с любовью небесной противопоставлены любви земной, и так далее.

Они представляют собой вот эти комбинации во время хоровода, не расцепленного и не соединенного – аккорд, опять три ноты, опять цезура, и вдруг мужская фигура. Это фигура Меркурия. И если все женские фигуры повторяют один и тот же незабвенный образ, образ Симонетты Веспуччи, то фигура Меркурия, несомненно, воспроизводит Джулиано Медичи. Это дань их памяти, и вместе с тем это включение их в высокую философскую концепцию этой картины.
Эта картина написана удивительно не только по метрическому и ритмическому строю, своеобразным аккордом, который можно бесконечно продолжать. Вся ее композиция держится на ритме, она держится не на повествовательном содержании, не на повести, а именно на том, на чем держится музыка и поэзия, – на ритме. Но самое поразительное, конечно, то, как Боттичелли писал эти струящиеся одежды, завивающиеся в разный орнамент, как будто вода стекает с тела. На это стоит обратить внимание, потому что тема тела и драпировки – это тема и античности, и Средних веков. Для античности драпировка всегда подчеркивает чувственное начало в теле: она всегда не просто сама по себе играет, она подчеркивает движение, силу, чувственно-мышечные начала. А в Средние века эти драпировки, которых очень много, скрывают тела, делая их бестелесными. Но вот у Боттичелли эти линии стекают вертикально, завиваются, извиваются. Они делают то, что делает античная драпировка, то есть подчеркивают тело, и в то же время делают то, что делала средневековая драпировка, которая как бы ликвидирует тело, делает его внечувственным. Они никогда не наступают на землю, они парят на вершок над землей. Это необыкновенно изысканные, прекрасные романтические образы, написанные художником вне времен и народов. Боттичелли был художником итальянским, флорентийским, художником Возрождения XV века. Как он писал линию, как он писал музыку линии! Это не только невозможно повторить, это даже невозможно описать словами. Правильно о нем всегда пишут, что он непревзойденный поэт линии. Сколько ни смотри на трех граций, на эти прозрачные драпировки, совершенно непонятно, как они написаны, как написаны эти тела, касающиеся и не касающиеся земли, теневые и полные чувственной женственной прелести.

А все пространство между этими линиями, между этими ритмами, заполнено каким-то божественным орнаментом деревьев. И как интересно живут эти деревья! Если вы будете смотреть справа налево, то вы увидите, что деревья справа – голые, на них нет ничего, они еще не распустились, на них нет даже еще листвы. Потом в том месте, где возникает Флора – сама весна, они начинают давать плоды, они уже цветут. А там, где стоят Мадонна (или Венера, тут уже трудно сказать) и три грации, на деревьях вдруг одновременно и цветы флердоранжа – образ свадеб, любви, и большие оранжевые плоды. И вот левая фигура, фигура Меркурия, одетая в плащ. На нем шлем, он поднял вверх свой волшебный жезл кадуцей и как бы касается деревьев, как бы гасит их. Считается, что здесь еще есть период полгода, ровно полгода – с марта по сентябрь. Март – это когда начинается цветение хмеля, начинается primavera, и вступает новый цикл жизни. А когда Меркурий своим жезлом касается дерева, гаснет лето, гаснет пора расцвета, и наступает осень. Меркурий гасит пору цветения в сентябре. Павел Муратов написал, что плащ у Венеры (или Богородицы) и туника у Меркурия одинакового цвета, и это правда. Туника орнаментирована очень мелким рисунком из погасших факелов, которые повернуты вниз пламенем. Это означает, что их больше нет, они ушли.

В этой картине очень высокая интуиция, чувствительность, художественное наваждение соединены с большим интеллектуализмом. Это интеллектуализм построения, интеллектуализм исполнения, а соединено это все очень органично. Точно так же, как есть двойственность эмоционального ощущения или двойственность эмоционального начала, это чувство одиночества в каждой фигуре. Каждая фигура очень одинока, очень замкнута на самой себе. Это состояние абсолютного одиночества, покинутости – оно не было характерным для эпохи Возрождения ощущением мира, это, скорее, было свойственно очень чувствительной поэтической натуре самого Боттичелли. И в его женщине, в этой Симонетте Веспуччи, и в его героях живут всегда одновременно два чувства: чувство цветущей мощи жизни, женственной прелести, и вместе с тем предчувствие смерти… Это соединение двух загадок, как писал Заболоцкий:
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук…

Пикассо и окрестности : сборник статей / отв. ред. М.А. Бусев. – М. : Прогресс-Традиция, 2006. – 296 с. : ил.
Пикассо и окрестности
Н.А. Дмитриева. Тема добра и зла в творчестве Пикассо
(Фрагменты)
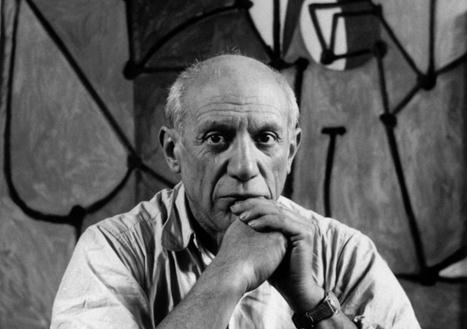
Пикассо родился на свет мертвым — не дышал. Принимавшим роды не удавалось оживить младенца, пока его не окурили горьким дымом сигары, тогда он сморщился и закричал.
В восточной мифологии есть легенда: если ангел смерти Азраил является к человеку преждевременно, раньше, чем написано в книге судеб, он удаляется, оставив несостоявшейся жертве два из своих многочисленных глаз, сплошь покрывающих его тело. Такой человек, получивший глаза ангела смерти в добавление к своим собственным, будет видеть больше, чем другие люди. Философ Шестов упоминал эту старинную легенду в связи с участью Достоевского, Бунин применял ее к Льву Толстому, вероятно, ее можно отнести и к Пикассо как метафору его творчества, тем более что в легенде идет речь о даре зрения.
Уже природная зрительная восприимчивость и зрительная память Пикассо, полученные без помощи Азраила, были феноменальны. Ему не было нужды штудировать натуру ради усвоения ее форм, он схватывал их мгновенно, знал наизусть. Поступая в Барселонскую школу изящных искусств, 14-летний Пабло поразил всех: за один день отлично исполнил задание, на которое отводился месяц. Это было ему легко, но не интересно. У него начинал прорезываться «внутренний глаз», способный на большее — давать пластическую форму своему пониманию мира и человека, осознанному или интуитивному. На том основаны его «притчи» — так он сам называл их в беседах с художницей Франсуазой Жило. (Она в течение десяти лет была женой Пикассо, постоянно присутствовала при его работе и записывала его высказывания. Он говорил с ней доверительно и, может быть, более серьезно, чем с журналистами, бравшими у него интервью, которых Пикассо любил ошарашивать парадоксами.) «Предмет самый обыкновенный может служить сосудом моей мысли, — говорил Пикассо. — Так же как притчи для Христа. У него были идеи; он их формулировал так, чтобы сделать их воспринимаемыми для всех. Вот и я в "общие места" вкладываю то, что хочу сказать, это мои притчи». Словесно он их не излагал. «Я говорю не все, но я рисую все»…
 Пикассо. Женщина с голубями
Пикассо. Женщина с голубями
***
Идея вездесущности зла вошла в сознание Пикассо, уже 25-летнего, когда он впервые увидел в Музее этнографии в Париже ритуальные маски народов Африки и Океании.
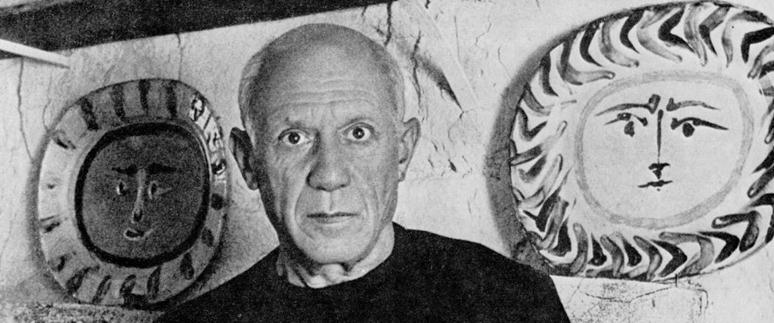
Распространено мнение, что знакомство с этими масками обусловило переход Пикассо к кубизму. По-видимому, это не совсем так. Сам художник отрицал связь кубизма с негритянским искусством, но почему отрицал, становится понятно из его разговора с Андре Мальро, опубликованного только после смерти художника. Пикассо рассказывал Мальро, какое потрясение он испытал много лет назад, случайно заглянув в Музей этнографии. Это было нечто вроде «арзамасского ужаса», некогда пережитого Толстым. «Мне захотелось бежать оттуда. Но я остался. Я понял, что это очень важно, что-то произошло со мной. Эти маски не были просто скульптурой. Совсем нет. Они были магическими предметами... Негритянские скульптуры были защитниками... Против всего: против неведомых, грозных духов. Я всегда рассматривал фетиши... Я понял, для чего неграм служит их скульптура. Почему она делается так, а не иначе... все фетиши служили одному и тому же. Они были оружием. Чтобы помочь людям не быть более подвластными духам, стать независимыми. Духи, бессознательное (о нем говорили еще мало), эмоция — ведь это все то же самое. Я понял, почему я художник. Наедине с масками, краснокожими куклами, пыльными манекенами в этом ужасном музее. "Авиньонские девицы", должно быть, пришли в тот день, но вовсе не из-за форм: а потому, что это было мое первое полотно, изгоняющее злых духов, только поэтому!»
 Пикассо. Авиньонские девицы
Пикассо. Авиньонские девицы
Иными словами, Пикассо понял, что, давая лик невидимому злу, разлитому в мире, гнездящемуся и в нем самом, он в какой-то мере от него освобождается и освобождает других. Надо вспомнить, что к тому времени молодой Пикассо был до отказа переполнен жестокими ранящими впечатлениями и даже как будто искал их. Он посещал грязные бордели, сумасшедшие дома, больницу для проституток, морг; на улицах Барселоны постоянно встречал нищих, слепых, голодных. Один из его близких друзей покончил жизнь самоубийством. В окончательном варианте «Авиньонских девиц» (1907), изображающем бордель, две фигуры справа — с искаженными лицами, зловещие, угрюмые, — действительно исчадия злого духа. Работая над этой картиной, Пикассо был необычайно мрачен и молчалив, — это удивляло его друзей, знавших его человеком живым и общительным, они даже начинали беспокоиться, как бы он не повесился рядом со своим холстом.

Мастерская на улице Великих Августинцев
***
Его отношение к человеческой натуре никогда не было сплошь враждебным, оно было двойственным, поскольку двойственна сама натура; зло и добро живут в ней рядом и подчас проникают одно в другое. Одно и то же существо может быть одновременно и орудием зла, и его жертвой, достойной сострадания.
 Пикассо. Девочка с голубем
Пикассо. Девочка с голубем
В те же 1930-е годы, когда в живописи Пикассо царили монстры, в графике он рассказал одну из самых глубоких своих притч — историю Минотавра.
 Пикассо. Минотавр
Пикассо. Минотавр
 Пикассо. Голова Минотавра
Пикассо. Голова Минотавра
Рассказал на «классическом» языке — образ человекобыка почерпнут из греческой мифологии. Но от мифа, как он изложен у Овидия, в мифе Пикассо почти ничего не осталось, пикассовский Минотавр соотнесен с жестокой игрой испанцев — корридой. Роль быка в корриде и агрессивная, и страдательная, таков же герой серии, включающей знаменитый офорт «Минотавромахия» (1935).
 Пикассо. Минотавромахия
Пикассо. Минотавромахия
Перипетии и варианты судьбы Минотавра прочитываются, как романтическая повесть, хотя строгой последовательности событий нет, да она и не нужна, зритель может сам ее установить. А противоречивость героя — он то свиреп, то кроток — есть противоречивость человеческой сущности, заключающей в себе и животное и духовное начало. Можно заметить: там, где Минотавр предстает существом злобным и отталкивающим, морда быка приобретает сходство со злым человеческим лицом. А там, где он вызывает симпатию, у него вполне натуральный бычий облик.

Казалось бы — должно быть наоборот? Нет: зверь более «человечен», нежели человек, одержимый зверством. Животное невинно, на нем нет греха, оно только повинуется врожденным инстинктам голода, страха, самозащиты, продолжения рода. Но когда животному уподобляется человек, он обращает во зло свой интеллект и становится чудовищем. Недаром чертей всегда изображали двуногими и, в общем, человекоподобными, но с хвостом и рогами.
Но и чудовище способно страдать. Палач и жертва могут поменяться местами. На одном листе изображено, как лошадь, вечная жертва быка на арене корриды, одержала над ним победу и с торжествующим ржаньем попирает Минотавра своими мощными копытами, — здесь лик умирающего очеловечен.
***
Среди этих поздних рисунков Пикассо есть один, подлинно гениальный, — его последний автопортрет, где он глядит прямо перед собой, в пространство, огромными расширенными глазами. Портрет очень схож, хотя ужасен и вместе с тем героичен. Как будто он видит все страшное, что проходило перед ним за долгую жизнь, однако не отводит взора. Тут начинаешь верить, что эти глаза и впрямь дарованы ангелом смерти. Показывая рисунок Пьеру Дэксу, художник сказал: «Он не похож ни на что другое, когда-либо созданное мной».
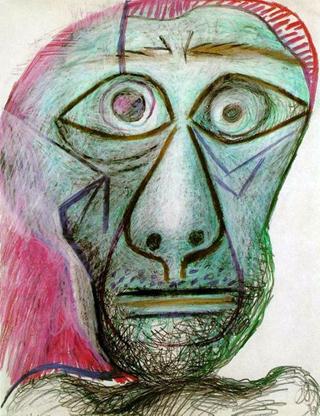 Пикассо. Автопортрет
Пикассо. Автопортрет
А еще гораздо раньше он сказал о себе так: «...будущее само отберет лучшие страницы. Не мое дело их отбирать... Я как река, несущая в своем течении вырванные с корнем деревья, дохлых собак, всякие отбросы и миазмы. Я захватываю все это и продолжаю свой бег».
Таков был гений XX столетия — его зеркало и его бич. А отбирать лучшие страницы предстоит уже другим векам.
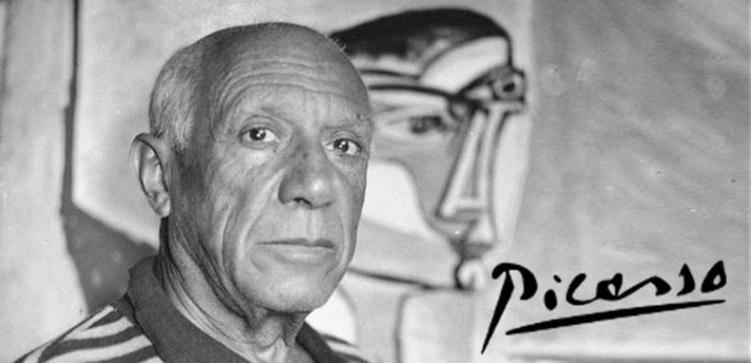
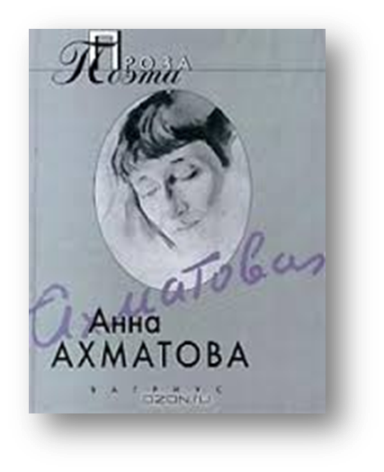
Ахматова А. Амедео Модильяни // [Воспоминания о современниках ; Проза о поэме ; Проза о Пушкине] / Анна Ахматова. – М.: Вагриус, 2000. - С. 44-53. – (Серия «Проза поэта»).

Амедео Модильяни
Эссе
…Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его - очень короткой, моей - очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.
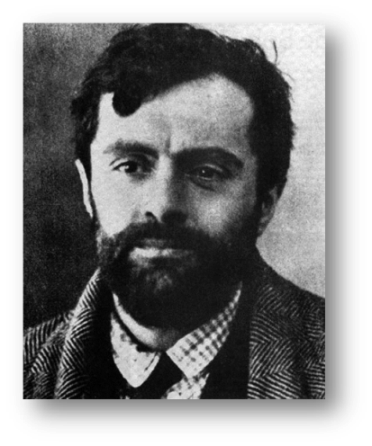
Амедео Модильяни
Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа.
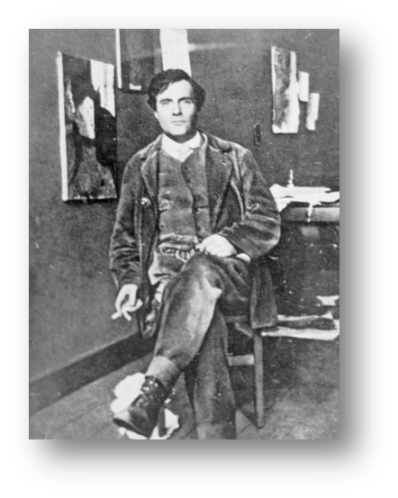
Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.
Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. "Не может быть, — они так красиво лежали..."
Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами.

Кафе «Ротонда», в котором любил бывать Модильяни
То, чем был тогда Париж, уже в начале двадцатых годов называлось старый Париж или довоенный Париж. Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались "Встреча кучеров", и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили "Пикассо и Брак". Ида Рубинштейн играла Шехерезаду, становились изящной традицией Дягилевский русский балет (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст).

Модильяни, Пикассо и Андре Сальмон. Париж, 1916 г.
Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к десятым годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена "Жар-птица". 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева "Петрушку".
Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдиссона, показал мне в кабачоке Пантеон два стола и сказал: "А это ваши социал-демократы — тут большевики, а там — меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravues). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.
Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.
Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в "Аполлоне" 1911 г.). Над "аполлоновской" живописью ("Мир искусства") Модильяни откровенно смеялся.
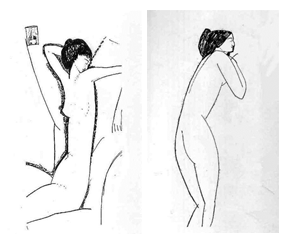
А. Модильяни. Анна Ахматова. 1911
Меня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы.
Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.
Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, - эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие "ню"...

А. Модильяни. Анна Ахматова. 1911
Как-то раз сказал: "Я забыл Вам сказать, что я - еврей". Что он родом из-под Ливорно - сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему - двадцать шесть.
Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему - летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?).
В это время ранние, легкие и, как всякому известно, похожие на этажерки, аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) - Эйфелевой башней.
Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское.
Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило - Чарли Чаплин. "Великий Немой" (как тогда называли кино) еще красноречиво безмолвствовал.
*
"А далеко на севере"... в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал:
если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней...
Три кита, на которых ныне покоится XX в. - Пруст, Джойс и Кафка, - еще не существовали, как мифы, хотя и были живы, как люди.
*
В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слыхали.
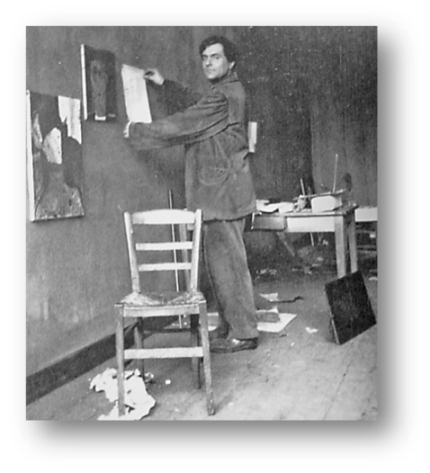
Модильяни в своей студии
Только раз Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его "пьяным чудовищем" или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года...
Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу... А я услышала о нем очень много...
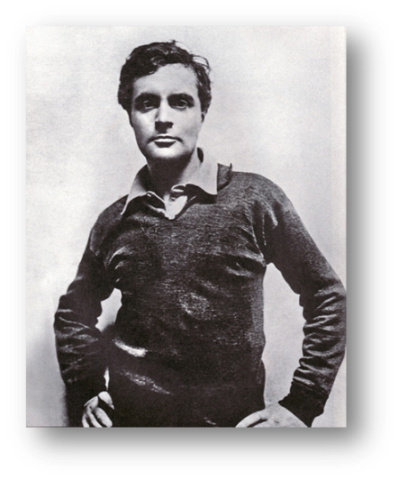
В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, издательство "Всемирная литература"). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла - фотография Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он - великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в тридцатых годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге "Стихи о канунах" и знал его в Париже позже, чем я. Читала я о Модильяни и у Карко, в книге "От Монмартра до Латинского квартала", и в бульварном романе, где автор соединил его с Утрилло. С уверенностью могу сказать, что этот гибрид на Модильяни десятого - одиннадцатого годов совершенно не похож, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов.
Но и совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма "Монпарнас, 19". Это очень горько!
Митурич М. Воспоминания. Живопись, графика / Май Митурич. – М.: Фортуна ЭЛ, 2015. – 336 с. : ил.

Наша справка:
Май Митурич.
Родился в Москве 29 мая 1925 года в семье художников Веры Хлебниковой (сестры поэта Велимира Хлебникова) и Петра Митурича.
Рисунки Мая Митурича известны нескольким поколениям читателей. Именно он создал иллюстрации к произведениям Киплинга, Кэрролла, Барто, Чуковского, Маршака и др. Однако мастерство художника выходит за рамки книжной графики.
Начиная с 1951 года Май Митурич почти ежегодно отправлялся в длительные поездки. На его рисунках, акварелях и автолитографиях запечатлелись пейзажи Дагестана и Осетии, Батуми и Крыма, Гималаев и Алтая.
Воспоминания
(Фрагменты)
… В экспедицию, в горы, я отправился с восторгом. Правда, экспедиционное начальство сильно загружало обязательными заданиями, и я, рисуя утварь, посуду, украшения, одежды, мало что успевал рисовать для себя. Но само путешествие было незабываемым. Обильные урожаи объектов мы не успевали зарисовывать, и основная группа экспедиции уходила вперед. Наметив дальнейший маршрут, оставляли нас с Эрой вдвоем. Местные жители были приветливы, делились скудными своими припасами, но к трапезе приглашали меня одного. Лишь когда мы, мужики, наедались, хозяева говорили: „иди, зови свой женщина“.
Передвигались мы от аула к аулу по тропам, пешком. Я брел, нагруженный папками, рюкзаком. Обгонявшие нас согбенные старухи не могли вынести зрелища нагруженного мужчины. Почти силой они отнимали мою ношу и убегали вперед. Вещи свои мы находили на дороге, при входе в аул.
 М. Митурич. Осетия
М. Митурич. Осетия
Горные пейзажи манили и восхищали. Порою, я улучал время для своей работы, но чувствовал себя не готовым еще к самостоятельной работе. Если в оформительских и простых прикладных делах я волен был делать то, что заблагорассудится, то над станковыми опытами нависала тень недостижимо высоких критериев, требований отца. Теперь, думая о судьбе отца, я отмечаю, что установка его на сверхзадачу сковывала и его самого. Не очень-то плодовитый, сколько рисунков, живописи уничтожил он в угоду своим теориям!
Среди обязательных для зарисовки предметов было много серебряных украшений — пряжек, подвесок, браслетов, цепей. Владельцы охотно их продавали, ценили низко. Но денег у нас не было вовсе. Хватило лишь на балхашский горшок. Тогда всех кустарей, умельцев объединили в артели. Давали задания. Кубачинские златокузнецы делали прочищалки для примусов. Молодежь отделялась, уходила в города. В аулах оставались согбенные старцы и малые дети. Рушились, иссякая, вековые устои.
 М. Митурич. Чегем
М. Митурич. Чегем
Старики молча позировали мне для портретов и молча уходили, не интересуясь взглянуть, что получилось. Мы уезжали, а на вершинах уже белел снег, который заметает тропы до весны. Согбенные старухи собирали прутики, сучья скудной растительности, запасая топливо на долгую зиму ‹…›
…На лето мы собирались в Крым! В Судак, в котором мама была еще с матерью и братом Виктором ‹…›
 В. Хлебникова. Крым
В. Хлебникова. Крым
Ехали поездом до Феодосии, опять двумя семьями, с Захаровыми. После утомительной для глаза равнины мама сказала, что скоро Джанкой и там из окна видно будет море. Отец тоже не видел моря, и мы прильнули к окну. Какой же чудесной показалась голубая полоска моря. А в Феодосии море плескалось уже у ног. На горной дороге меня укачало, и в Судак я прибыл еле живым. Но на твердой земле морская болезнь быстро уходит.
 М. Митурич. Пейзаж
М. Митурич. Пейзаж
У автобусной станции ожидали два транспортных средства — телега с белым тентом, под которым восседал невероятно толстый возница, как говорили — цыган. Худенькая его лошадка была немного крупнее конкурента — рыжего осла с хромым, на деревянной ноге поводырем. Кем-то наученные, мы везли крупы, сахар, какие-то консервы и другие продукты. Еще этюдники, папки, краски. Наверное, столько же и Захаровы, которые ехали еще и с бабушкой и с двухлетней дочкой — Иркой-пупыркой. Мы погрузили узлы на цыганскую повозку, а сами гуськом двинулись в путь. Не знаю, каким путем разведали родители дом под Алчаком, где мы остановились. Но дом этот, без сомнения, — лучшее место в Судаке. Домик этот на отроге горы Алчак отделен от города широкой долиной виноградников. Хозяйка Христина Антоновна, крымская немка, взялась для нас готовить, чтобы опять освободить маму для живописи.
И хотя сама она, ее родители и деды жили в Крыму, по-русски она говорила очень и очень по-немецки. Хозяин — Сергей Алексеевич Кономопуло — грек. Плотник и рыбак.
 В. Хлебникова. Крым. Среди гор. Дом Сергея Кономопуло
В. Хлебникова. Крым. Среди гор. Дом Сергея Кономопуло
Дом Кономопуло состоял как бы из двух половин. В одной поселились мы — в другой Захаровы. Сами хозяева переселились в сарайчик. Наверное, это лето было самым счастливым для всех нас ‹…›
 М. Митурич. Пейзаж
М. Митурич. Пейзаж
Мама и отец принялись за работу. За рисунок, живопись. Я же наслаждался открывшимся новым миром и, конечно, — ружьем.
Изрядно обгорев на солнце в первые дни, все мы стали покрываться настоящим южным загаром. На каменистой почве очень скоро туфли мои сгорели. Кожа на подошвах отвердела, и я стал бегать босиком. Скоро обзавелся и закадычным другом Васькой и, прихватив ружье, а Васька удочки, мы отправлялись на добычу. А для оправдания кровожадных нападений на птичек брали с собою алюминиевую тарелку, если не забывали — кулечек соли и спички.
И всех пойманных рыбешек и подстреленных мелких птичек жарили на алюминиевой тарелке и грызли превратившиеся в сухари тушки.
Гора Алчак замыкает судакскую бухту. И если где-то в средней части пляжа, где дома отдыха и санатории, виднелись группки купальщиков, то у Алчака всегда было пустынно. А уж за Алчаком простиралась Капсель — мертвая бухта, где в те годы не было ни души. Там, в Капсели, отец делал рисунки с обнаженной мамы. Там и купались. Покрытая скудной солончаковой растительностью, холмистая равнина Капсели простиралась до мыса Миляном, до которого по берегу, как говорили, восемнадцать километров. Туда-то, под Миляном, и отправились мы с Васькой с ночевкой.
 М. Митурич. Пейзаж
М. Митурич. Пейзаж
Двинулись в жару, налегке, прихватив спички и немного съестного. Не спеша, купаясь, забрасывая то тут, то там удочки добрались наконец до круч Милянома. И поудив на закате, отправились на ночлег. С заходом солнца горячий песок начал остывать, и скоро мы уже жались друг к другу, дрожа от холода. Где-то близко завыли, затяфкали шакалы. Мы же, окончательно замерзнув, решили греться в море. Вода действительно показалась теплее. Но и в море согреться не удалось. Ночь была лунной, и мы начали собирать по берегу сухие корешки и щепки, выброшенные на берег волнами. Развели костерок и спасались им до утра. До сих пор помню животворное тепло первых лучей восходящего солнца. Согревшись, мы прилегли и тут же уснули, наверное до полудня, когда раскаленные солнцем забрались спасаться, теперь уже от жары, в море. По счастью, научившись в Солотче плавать, в Судаке я плавал не хуже других мальчишек, и нырял, и прыгал с высоких камней в воду. Словом — освоился…
 М. Митурич
М. Митурич
А в Судак вслед за отцом и Захаровым приезжали еще друзья-художники — приехали Свешниковы с сыном Володей, Моля Аскинази, Юрий Корвин. Они поселились в немецкой колонии, на другом краю бухты, под горой Сокол, у подножия Генуэзской крепости…
… Считается, что судакская бухта от Алчака до Генуэзской крепости около трех километров. Работая с утра всякий в своих угодьях, все друзья сходились у середины залива, у чебуречной Джинибека.
Там, с чебуреками и рислингом, вели беседы, конечно же, снова об искусстве. Купались в теплом море и снова согревались рислингом и чебуреками.
По полстакана вина перепадало и нам с Вовой Свешниковым. А порою, оглянувшись на маму, дядя Паша подливал и побольше…
 М. Митурич. Горная долина в июне
М. Митурич. Горная долина в июне
… Мы становились веселыми и ловкими, кувыркались на песке, тормошили и задирали взрослых, которые охотно дурачились с нами. Шутили. Расходились уже в темноте, пытаясь узнавать, вспоминать названия звезд, созвездий. Однажды, бродя как обычно в окрестностях дома, я увидел дядьку, который нес за лапки, как носят кур, — двух воронят. Не ворон, а черных воронов. Почему-то я сразу узнал их, хотя прежде видел разве что на картинке. Каким-то образом у дядьки их выпросил и водворил на нашей веранде. Поправив перья, они стали громко просить еды. А поев, успокоились, устроились на веранде. На веранде лежала открытая книга — мое чтение «Тиль Уленшпигель». Видимо, ветерок пошевелил страницы, и новые питомцы изрядно потрепали книгу своими клювами. Книга эта со следами их клювов и теперь сохранилась у меня. А за подвиг этот нарекли их Тиль (был побольше, покрепче) и Нели — посубтильней.
В Джубге вдруг потянуло меня рисовать. И, не спросясь отца, я схватил несколько листов из небогатого его запаса хорошей бумаги, ватмана. И чуть не в один присест, подражая отцу, испачкал их тушью.
 М. Митурич. Пейзаж
М. Митурич. Пейзаж
Отец не похвалил меня. Правда там же в Джубге были у меня и первые опыты живописи маслом. Присаживаясь рядом с мамой, я, наверное, пытался подражать ей. В Джубгу тоже съехались многие из учеников отца. Опять зажили дружной и веселой компанией, всякий вечер сходясь на берегу. На каменистом и корявом пляже в Джубге вспоминался шелковый песок судакских пляжей. Один из соседей, местный джугбский житель, был охотником. Была у него и гончая по имени Догоняй. А еще был каким-то образом пойманный олененок. Рыженький, в белых крапинках, совсем еще маленький (наверное, это был теленочек косули). Олененок совсем меня заворожил. И я стал мечтать о том, чтобы олененок этот стал моим. Стал бы совсем ручным, и я видел его уже у нас в Москве, на девятом этаже. И даже начал обрабатывать потихоньку маму. Странно, но я не помню твердых возражений маминых, что это невозможно, держать оленя в комнате на девятом этаже. Что очень скоро малыш подрастет и станет оленем. А ведь шел 1938 год. Мне было уже тринадцать лет! Такие вот были мечты ‹…› В том году (1938) отец получил заказ на серию литографий «На родине Сталина» и после Джубги поехал в Гори. А мы с мамой перебрались в Анапу. Хотя в Джубге я тосковал по полюбившемуся Судаку, Анапа после Джубги, зеленой и гористой, показалась пыльной пустыней. И знаменитый анапский детский пляж, где можно было чуть не до горизонта уходить в море — и все по колено, наводил тоску после Судака, где можно было нырять с камней, со скал, и плавать вволю. И нырять-то в Анапе нельзя, потому что постоянная на мелководье взвесь песка разъедает глаза. Мама взялась за акварель ‹…›
 В. Хлебникова. Светлая Джугба
В. Хлебникова. Светлая Джугба
Я же утешился знакомством с охотником. Осенью, когда поджигали жнивье, из бегущего по стерне огня выпархивали перепелку. Дядя-охотник (не помню, как звали его) — палил, а я вместо собаки искал добычу. Как же трудно разглядеть, увидеть перепелку, даже и не затаившуюся, а убитую.
В Москву отец вернулся с хорошим урожаем рисунков. После Гори он побывал еще и в Батуми и там впервые увидел тропическую растительность.
Новые яркие впечатления вдохновили его на замечательные батумские литографии.
Хорошие рисунки — пейзажи Гори, павильон с мемориальным домиком и одиноким охотником около него, интерьер сакли и даже школа, где учился Сталин, с целым классом юных учеников. Почему же уничтожили, не посмотрев даже? Видимо, имя Митурича не должно было возникать вблизи к сталинскому ‹…›
 В. Хлебникова. Крым
В. Хлебникова. Крым
И снова зима, о которой ничего не помнится. Но маме в Джубге работалось хорошо. Джубгская живопись ее теперь в астраханской галерее и в Государственном Русском музее. “Расписавшись”, она продолжала писать и в Москве — натюрморт с кольчугой. Пейзаж из нашего московского окна…
 П. Митурич. Москва. Мясницкая улица
П. Митурич. Москва. Мясницкая улица
Анненков Ю. Дневник моих встреч : цикл трагедий / Юрий Анненков. – М.: Вагриус, 2005. – 736 с.

Наша справка:
Юрий Анненков (1889- 1974) - русский и французский живописец и график, художник театра и кино, заметная фигура русского авангарда, литератор. Литературный псевдоним – Борис Темирязев.
Дневник моих встреч
От автора
Мы все еще, разумеется, молоды:
кому — пятьдесят, кому — шестьдесят,
кому — далеко за семьдесят.
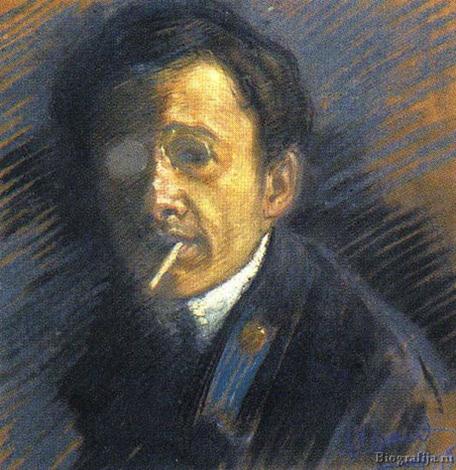 Ю. Анненков. Автопортрет
Ю. Анненков. Автопортрет
Единственный груз, который начинает нас тяготить, это — груз воспоминаний. Когда воспоминания становятся слишком обременительными, мы сбрасываем их по дороге, где придется и сколько удастся. И мы облегченно вздыхаем. Черепная коробка раскрывается для новых восприятий, видения и звуки яснеют.
Однако бывают воспоминания, которые не только внешне отлагаются на поверхности нашей памяти, загромождая ее, но органически дополняют и обогащают нашу личную жизнь. Их мы не отдаем и не отбрасываем, мы только делимся ими.
К таким воспоминаниям относится у меня все то, что связывало меня с людьми, которым посвящена эта книга, отнюдь не претендующая быть объективным разбором их творчества или их биографическими очерками. Здесь просто записаны мои впечатления и чувства, сохранившиеся от наших встреч, дружбы, творчества, труда, надежд, безнадежности и расставаний.
 О. Спесивцева. Рис. Ю. Анненкова
О. Спесивцева. Рис. Ю. Анненкова
 А. Ахматова. Рис. Ю. Анненкова
А. Ахматова. Рис. Ю. Анненкова
Моя близорукость или — моя дальнозоркость, моя наблюдательность или — моя рассеянность, моя память или — моя забывчивость несут ответственность за все, написанное на этих страницах.
Юрий Анненков.
Алексей Ремизов и Сергей Прокофьев
Алексей Михайлович Ремизов был моим парижским соседом: он жил на улице Буало, в доме № 7. В том же доме жил и мой давний друг (еще со времени «Кривого Зеркала») Н.Евреинов, а сразу же напротив, по другую сторону улицы — один из основателей сионизма, доктор Д.Пасманик, с которым я познакомился и очень близко сошелся в одном пансионе над Ниццей, где мы оба жили в 1929 году и с террасы которого, сквозь виноградники, открывался незабываемый вид на Средиземное море.
 А. Ремизов. Рис. Ю. Анненкова
А. Ремизов. Рис. Ю. Анненкова
Но Ремизова или, вернее, Ремизовых я знал еще в период Первой мировой войны и в первые годы революции, в Петербурге. Я помню комнатку Алексея Михайловича в их квартирке на Троицкой улице, недалеко от ее впадения в Невский проспект, где на одном углу помещалась булочная и кофейная Филиппова, а на противоположном — ресторан-бар «Квисисана». Я не говорил тогда по-итальянски и никогда не задумывался о том, что значило это название: «Квисисана»? Но вот однажды Алексей Михайлович сказал мне:
— Пойдем, пожалуй, посидим там, где оздоровляют.
Я не понял. Он объяснил мне:
— Так ведь это же — qui si sana.
Я понял и удивился своему невежеству. Впоследствии, блуждая по Италии, я встретил в нескольких городах рестораны под названием Qui si sana.
Мы часто просиживали с Ремизовым в петербургской «Квисисане». Иногда захаживали к Филиппову перехватить один-другой пирожок с капустой, с рисом и в особенности с яблоками. Мы присаживались в «Квисисане» к столику, заказывали скромно чай. Посетители косились на нас, то есть скорее на Ремизова. В его внешности, очень своеобразной, было, мне казалось, что-то от ежика, принявшего человеческий образ: в походке, во взглядах, в поворотах головы.
В наших беседах встречались имена Федора Сологуба, Василия Розанова, Вячеслава Иванова, Георгия Чулкова, Николая Бердяева, Павла Щеголева, конечно — и Андрея Белого, Александра Блока, а также Николая Рериха. О Рерихе Ремизов писал: «Н.К.Рерих знает всю доисторическую историю, 200 000 лет смотрят через его каменные глаза».
О Блоке — еще удивительнее: «Квартира в пять комнат. Две заперты — мебели не хватило…
— Зачем, — говорю, — вам пять комнат?
— Когда большая квартира, — виновато отвечает Блок, — из кухни ничего не слышно…
Рояль пепельно-зеленый, привинчен к стене, ножками не касается пола.
— А как же играть?
— Лунными руками.
И появляется весь в белом, синие глаза, похож на Блока, но губы тонко сжаты. Сел за рояль и, не сводя с меня глаз, будто читая с моего лица ноты, начал играть, пальцы розовые.
И еще четверо похожих, белые, они вышли из звуков и, сплетаясь, закружились. И я невольно верчусь с ними и чувствую, как весь я переменился: мое лицо перелистывается, как ноты.
И мы впятером, кружась, подымались над роялем к потолку, а потолок улетает, и не потолок уже, а над нами ночь.
— Куда мы?
— На луну! — отвечает Блок…
Стихи не написаны, а наклеены… Читает Блок. И мы летим. Я повернулся на спину, лечу, как плыву…»
Ни Гагарина, ни Титова тогда еще не было.
Блок жил. Его поэзия — тоже, уносившая нас очень далеко, хотя спутников тоже еще не существовало. Поэзия сильнее и дальновиднее спутников, хотя и значительно старше их…
Александр Блок
Наша первая юность проходила под знаком Блока. Сборники его стихотворений были нашими настольными книгами. «Блоком бредила вся молодежь обеих столиц, — вспоминал Борис Пастернак в “Докторе Живаго”, — Блок — это явление Рождества во всех областях русской жизни, в северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостиной нынешнего века…»
К какому литературному течению, к какой литературной школе принадлежала поэзия Блока, нас тогда не интересовало: мы ее слушали, она проникала в нас и запоминалась мелодически. Впрочем, Блок сам говорил: «Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах… Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм».
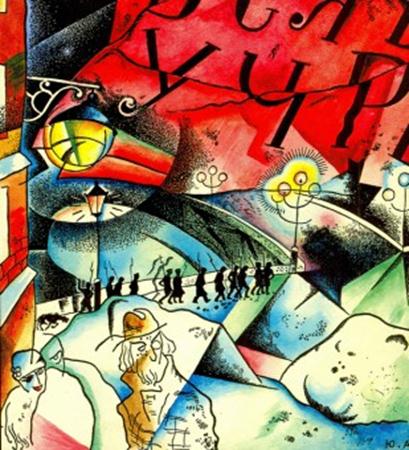 Иллюстрация Ю. Анненкова к поэме А. Б «Двенадцать»
Иллюстрация Ю. Анненкова к поэме А. Б «Двенадцать»
Теории в нашем возрасте были нам еще не по вкусу. Не следует, однако, думать, что мы не были с ними знакомы; но теории, школы, направления, течения представлялись нам в то время не более чем темой для «умных» разговоров. Мы ждали от поэзии другого, и Блок не был для нас случайностью; он был нашим избранником. Мы недолюбливали Бальмонта, называли его «подкрашенным» поэтом. Посмеивались над Зинаидой Гиппиус, потому что она писала от своего имени в мужском роде. Предпочитали мы Брюсова, но он был слишком холоден и академичен, почти так же, как Вячеслав Иванов. Ближе других был Андрей Белый. В Сологубе нам больше нравилась его проза. Городецкого сравнивали с кустарной игрушкой. Тепло прислушивались к Кузмину. Внимательно — к Иннокентию Анненскому. Но избранником был Блок…
Всеволод Мейерхольд
Мейерхольд любил говорить:
«Связь между искусством и реальностью —
та же, что между вином и виноградом».
 В. Мейерхольд. Рис. Ю. Анненкова
В. Мейерхольд. Рис. Ю. Анненкова
…В моей ранней юности меня всегда увлекала в постановках Мейерхольда пластичность застывания движений, скульптурная неподвижность групп и певучая сдержанность речи. Мейерхольд писал: «Нужен Неподвижный театр. И он не является чем-то новым, никогда не бывалым. Такой театр уже был. Самые лучшие из древних трагедий: „Эвмениды“, „Антигона“, „Электра“, „Эдип в Колоне“, „Прометей“, трагедия „Хоэфоры“ — трагедии неподвижные. В них нет даже психологического действия, не только материального, того, что называется сюжетом. Вот образцы драматургии Неподвижного театра. А в них Рок и положение Человека во вселенной — ось трагедии. Если нет движения в развитии сюжета, если вся трагедия построена на взаимоотношении Рока и Человека, нужен Неподвижный театр…
 Эскиз костюма. Рис. Ю. Анненкова
Эскиз костюма. Рис. Ю. Анненкова
Техника неподвижного театра та, которая боится лишних движений, чтобы ими не отвлечь внимание зрителя от сложных внутренних переживаний, которые можно подслушать лишь в шорохе, в паузе, в дрогнувшем голосе, в слезе, заволокнувшей глаз актера… Действие внешнее в новой драме, выявление характеров становится ненужным. Мы хотим проникнуть за маску и за действие в умопостигаемый характер лица и прозреть его внутреннюю маску».
… В чем заключается устремление Мейерхольда в настоящее время? В приближении театра к цирку, к мюзик-холлу. Пусть, говорит он, театр будет веселым зрелищем, пусть наполнится он гаерами, гимнастами, красками, звоном, весельем, мастерством, непринужденностью и т. д. и т. п. Конечно, этот мейерхольдовский театр, который я от всей души приветствую, не надо будет называть театром, его можно звать как угодно. Я предлагаю, когда мы осуществим его, первое подобное учреждение назвать Мейерхольдией. Это будет нечто замечательно веселое, милое, куда можно будет пойти отдохнуть душой. Это будет выражение американизма, от которого мы вовсе не думаем чураться, как от дьявола, которому мы охотно отдадим свое (как не будем, несомненно, прогонять и милого чертенка оперетку), но театра, конечно, заменить все это нам не в состоянии…
Исаак Бабель
Пильняк многоречив,
A Бабель слишком краток.
На всех московских
Есть особый отпечаток.
«Огонек» (1928–1930 годы)
…В противоположность многим русским писателям и поэтам нашего времени, часто мрачневшим, Исаак Эммануилович Бабель был неизменно весел, смешлив, молод. Мы целыми днями блуждали по Парижу, развлекались на бульварных ярмарках, кувыркались на качелях, стреляли — почти без промахов! — в гипсовые трубочки и, конечно, толкались на Монпарнасе.
 И. Бабель. Рис. Ю. Анненкова
И. Бабель. Рис. Ю. Анненкова
Вскоре же после нашей первой встречи у Эренбурга Бабель стал одним из самых частых моих гостей, «завсегдатаев». Придет на улицу Буало, позвонит и спросит в приоткрытую дверь:
— Разрешается заглянуть к старосветским помещикам?
Старосветские помещики, то есть моя жена и я, всегда бывали очень рады появлению Бабеля. Его жена, Евгения Борисовна, женщина чрезвычайно высокой культуры, но постоянно занятая семейными заботами, приходила значительно реже, чем ее муж. Наши беседы почти всегда заканчивались прогулками.
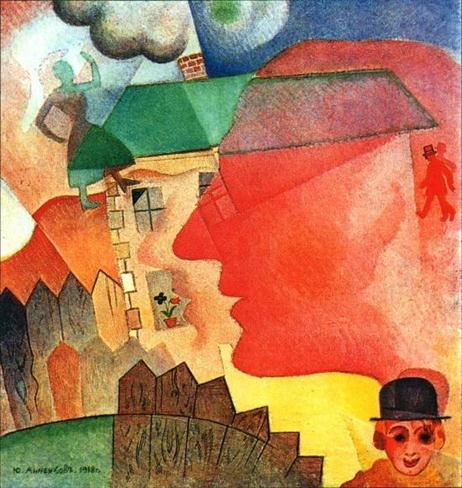 Рис. Ю. Анненкова
Рис. Ю. Анненкова
— Пойдем посмотрим? — спрашивал Бабель. В Париже всегда было что посмотреть. Но Бабель в особенности интересовался живописью, а вернисажи художественных выставок устраивались в Париже по два, по три раза в неделю. Я много раз бывал с Бабелем на выставках и даже в музеях. О живописи Бабель говорил со мной гораздо чаще, чем о литературе. В живописи его интересовали главным образом французский импрессионизм и истоки беспредметного, абстрактного искусства. Импрессионизм привлекал Бабеля своей интимностью, непринужденностью, уютностью.
— Импрессионизм, — сказал он однажды, беседуя о Ренуаре, — это что-то такое успокоительно-пестренькое!
Эти слова меня удивили неожиданной правдивостью определения, даже с технической стороны. И не только по отношению к Ренуару: посмотрим на холсты Клода Моне, Дега, Писсарро, Сислея, Берты Моризо или их последователей — Сёра, Синьяка, Вюйара, Боннара, до нашего Пуни включительно…
Максим Горький
 М. Горький. Рис. Ю. Анненкова
М. Горький. Рис. Ю. Анненкова
Судьба дала мне возможность близко знать Горького в самые различные периоды его жизни. Выходец из нижних социальных слоев России, Алексей Максимович Пешков, переименовавший себя в Максима Горького, был «мальчиком» при магазине, посудником на пароходе, статистом в ярмарочном бараке, пильщиком, грузчиком, пекарем,
садовником, весовщиком и сторожем на железнодорожных станциях.
Несмотря на все это и на революционные убеждения Горького, «классовое» общество и «жестокий» царский режим не помешали Горькому печатать свои произведения и прославиться в дореволюционной России и во всем мире.
Но разве Ломоносов не был сыном крестьянина-рыболова? Разве зодчий и живописец Воронихин, дед моего дяди, не был крепостным графа Строганова? Разве Шаляпин, сын мелкого канцелярского служащего, не был учеником у сапожника, токарем и переписчиком бумаг? Разве Федор Рокотов не был крепостным князя Репина? Орест Кипренский — сыном крепостного? Павел Федотов — сыном простого солдата в отставке? И не только они, но сколько других знаменитостей…
В эпоху, когда утверждалось его литературное имя, Горький, всегда одетый в черное, носил косоворотку тонкого сукна, подпоясанную узким кожаным ремешком, суконные шаровары, высокие сапоги и романтическую широкополую шляпу, прикрывавшую волосы, спадавшие на уши. Этот «демократический» образ Горького известен всему миру и способствовал легенде Горького.
Однако, если Лев Толстой, граф, превращался, несмотря на свое происхождение, в подлинного босоногого крестьянина, Горький, пролетарий, одевался ни по-рабочему, ни по-мужицки, а носил декоративный костюм собственного изобретения.
Этот ложнорусский костюм тем не менее быстро вошел в моду среди литературной богемы и революционной молодежи и удержался там даже тогда, когда сам Горький от него отрекся, сохранив от прежнего своего облика лишь знаменитые усы. Высокий, худой, он сутулился уже в те годы, и косоворотка свисала с его слишком горизонтальных плеч как с вешалки. При ходьбе он так тесно переставлял ноги, что голенища терлись друг о друга с легким шуршанием, а иногда и с присвистом…
… Веселость и юмор, общительность и склонность к широкому укладу жизни сохранились в нем навсегда…
Константин Коровин вспоминает… / сост. И.С. Зильберштейн и В.А. Самков. – М.: Изобразительное искусство, 1990. – 608 с. : ил.
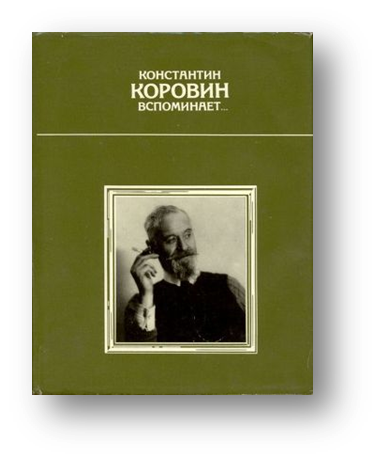
Ответы на вопросы о жизни и творчестве
(фрагменты)
Делатели искусства, создавая его, говорят вам о своем создании языком своего я. Этот язык создания есть умение артиста вызвать в вас духовное наслаждение.
 К. Коровин. Гурзуф
К. Коровин. Гурзуф
***
Эрудиция, анализ и взятие всевозможных рецептов творчества, модничанье новшества еще ничего не делают. Теоретики дают сухие ненужные схемы своих сердитых потуг, и выходит какая-то методика вместо искусства, что делает большую скуку и большей частью слабое искусство, и пережевывают то, что уже сказано было большими мастерами ранее.
***
В искусстве пения, то же и в музыке, и в живописи, есть <…> гармония. Мы говорим про музыку — детонирует, грубо и другое, а про живопись разве не то?
***
<…> Но есть вещи, которые долго и всегда живы, потому что их авторы — настоящие таланты. Те, которые делают это, есть гении. Они не только не стареют, а чем дальше культура людей [развивается], тем больше она открывает в них красоты. Люди истинно восхищаются, они как бы научились читать их своей душой.
 К. Коровин. Портрет Ф. Шаляпина
К. Коровин. Портрет Ф. Шаляпина
***
Краски и формы в своих сочетаниях дают гармонию красоты — освещение. Краски могут быть праздником глаза, как музыка — праздник слуха души. Глаза говорят вашей душе радость, наслаждение, краски, аккорды цветов, форм. Вот эту-то задачу я и поставил себе в декоративной живописи театра, балета и оперы.

К. Коровин. Эскиз декорации к опере А.Г.Рубинштейна «Демон»
Мне хотелось, чтобы глаз зрителя тоже бы эстетически наслаждался, как ухо души — музыкой. Неожиданностью форм, фонтаном цветов мне хотелось волновать глаза людей со сцены, и я видел, что я даю им радость и интерес, но они, уйдя из театра, читали в газетах: «декадент Коровин». Это было смешно и грустно. Потом я уже постарел и сделался почему-то «маститый». Это уже было тоже мало понятно. Но что делать — такой закон или, вернее, свойство людей. На сцене хотели паноптикум натурализма, верней, подделки под правду. Я думал, что такая точка зрения неправа, потому что она вздор дешевого вкуса и полного непонимания искусства. Нельзя искать актера-убийцу, чтобы играть Отелло.
Реализм в живописи имеет нескончаемые глубины, но пусть не думают, что протокол есть художественное произведение.
 К. Коровин. Розы
К. Коровин. Розы
Все оригинальные авторы, которые дают название направлениям — импрессионизм, неоимпрессионизм, кубизм и прочее, — они могут быть и новы, и оригинальны, и значительны, и прекрасны. И как бы ни был велик артист, художник своего ценного «я», все же ни один из них, больших, не скажет, что он больше другого большого художника прошедшего времени, и что искусство исчерпано, и что только одно новое искусство истинно. Нет, истинно все искусство в своем интересном величайшем разнообразии.
 К. Коровин. Северная идиллия
К. Коровин. Северная идиллия
Я лично люблю все искусство — и старое, и новое, всю музыку, даже слушать шарманку — ведь на них [шарманках] играли Бетховена и Штрауса. Не очень мне нравятся произведения, сделанные с досадой, нарочно, с какой-то недоброй стороной озорства, или самоуверенная пошлость. Ведь в произведениях искусства живописи видно ясно все лицо, всю душу автора.
 К. Коровин. Портрет артистки Татьяны Любатович
К. Коровин. Портрет артистки Татьяны Любатович
Заметки об искусстве
Пейзаж не писать [без] цели, если он только красив, — в нем должна быть история души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словом, это так похоже на музыку.
Я вовсе забыл живопись, забыл вписывать в холст натуру, вмазывать!!! Переводить глаза, сравнивать <…> Я начал совсем как-то плохо, не умея, рисовать. Нужно и надо вот рисовать на расстоянии.
Нужны картины, которые близки сердцу, на которые отзывается душа <…>
 К. Коровин. Гурзуф
К. Коровин. Гурзуф
Нужен свет — больше отрадного, светлого.
У меня все полуотсебятина. Я не добиваюсь натуры.
Я не перевожу глаза и понапрасну не делаю светов и цветов.
Этюды для этюдов писать большая скука, нужно писать этюды для картины, например, воздух в данном освещении поштудировать к картине.
А то, что называется пейзажем, есть моя написанная «Осень». В ней была какая-то особенная любовь к природе, что было в моем раннем детстве.
Сама красота зависит (и сила впечатления) от правды в живописи.
Нужно работать тоньше мотив и самую правду брать верней и доконченней цель и задачу. Нужно отходить от себя и быть, глядя на вещь, посторонним.
 К. Коровин. Осень
К. Коровин. Осень
***
Нужно быть умно оригинальным — от сердца — в живописи.
***
Петербург. Болит моя грудь. Люди, вы такие дикие! В вас нет бога. Я художник, вся зависимость моя есть от общества, а вы не хотите обратить ваше внимание.
***
Ругать Врубеля, этого голодного гения, и быть настолько неинтеллигентным, чтобы его не понимать сознательно…
***
Мастерская — это спасение от мира подлости, зла и несправедливости.
***
После дождя — свет воздуха. Окраины предметов светлеют, соответственно тона предметов темные и тушуются тонами и полутонами; списывать предметы с другими.
 К. Коровин. Мулен Руж
К. Коровин. Мулен Руж
***
Работать надо, не насилуя свои знания — свободнее, радостнее, [посвежее], веселее, чувствуя красоту, погорячей, больше шутки, но поскорее, и дать рисунку «изловчиться к правде» <…>
***
<…> Как бы я хотел написать вечер в Грузии, а мне предлагают жить в глуши, в деревне, но и там есть хороший дом, где хорошо писать утром, он огромный и мрачный, глухой, как гроб, и что же — я даже не знаю, на что купить красок. А я доныне доброе пел людям — песню о природе красоты.
Меня душат слезы. Не человеком ли я относился ко всем, не добряком ли? О друзья, друзья! Как трудны бывают минуты моей жизни, а все готовы осудить меня и быть мне недоброжелателями… А я вот — русский, и все есть, чтобы стать лучшим художником, и что же? Нет ответа. Глухо, а время все идет и идет.
 К. Коровин. В лодке
К. Коровин. В лодке
***
Писать нужно весело, свежо и немного брать и публику в расчет: кому пишешь.
***
<…> Новое нужно, новый подход, новую позу.
Никакой кладки вкусной краски быть не должно. Быть должно самое точное сочетание тонов и работа от чувства и увлечение. Невольно должна быть выражена сумма впечатлений и чувствований.
Отчего у меня в живописи нет увлечения, нет трепета? Заставить нужно верить себе.
Окно открыто, я слышу трепет и шум листьев. Какой главный шум? Как добро проснулось на душе, и что же — как много осталось разных звуков во мне, как много того, что я люблю.
 К. Коровин. Цветы и фрукты
К. Коровин. Цветы и фрукты
***
Только искусство делает из человека человека. Неправда, христианство не лишало человека чувства эстетики: Христос велел жить и не закапывать таланта. Мир языческий был полон творчества, при христианстве, может быть, вдвое.
У меня был Ге, говорил о любви и прочем. Да, правда, любовь — это многое, но о деньгах он как-то отвернулся. Увы, бескорыстность не в тех, кто о ней говорит, а в тех, кто об ней не думает. Во мне нет корысти. Я бы действительно хотел петь красками песню поэзии, но я не могу — у меня нет насущного. А если я буду оригинален, то и не пойду по ступенькам признания и поэтому принужден быть голодным.
 К. Коровин. Бумажные фонари
К. Коровин. Бумажные фонари
***
Чувствовать красоту краски, света — вот в чем художество выражается немного, но правдиво, верно брать, наслаждаться свободно; отношения тонов. Тона, тона правдивей и трезвей — они содержание. Надо сюжет искать для тона. У меня плохо оттого, что я не чувствую. Оторванно же сирени из окна чудо как хороши. Творчество в смысле импрессионизма.
Нужно так брать предмет, чтобы удобно его видеть.
***
Эпоха и обстоятельства, когда талант еще не проявил свое начало, будут всегда гнать его до тех пор, покуда он не заставит себе верить. Но горе, если он будет беден, он не скоро выйдет признанным. Талант есть только то, что дает жизнь и радость нравственную.
 К. Коровин. Бумажные фонари
К. Коровин. Бумажные фонари
Пинаев С. М. Максимилиан Волошин, или Себя забывший бог // С.М. Пинаев. – М. : Молодая гвардия, 2005. – 661 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей)
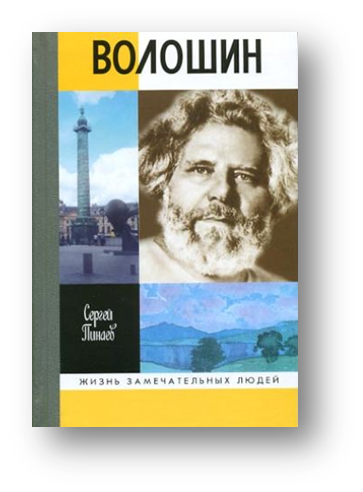
Максимилиан Волошин, или Себя забывший бог
…И бродит он в пыли
земных дорог —
Отступник жрец, себя
забывший бог,
Следя в вещах знакомые узоры.
Он тот, кому погибель не дана,
Кто, встретив смерть,
в смущеньи клонит взоры,
Кто видит сны и помнит имена.
Максимилиан Волошин. Corona Astralis, XI
Когда на земле происходит битва, разделяющая всё человечество на два непримиримых стана, надо, чтобы кто-то стоял в своей келье на коленях и молился за всех враждующих: и за врагов, и за братьев. В эпоху всеобщего ожесточения и слепоты надо, чтобы оставались люди, которые могут противиться чувству мести и ненависти и заклинать обезумевшую реальность — благословением. В этом — высший религиозный долг, в этом «Дхарма» поэта.
Максимилиан Волошин. Судьба Верхарна

Великий пан Коктебеля
Пролог
Коктебельская бухта. Потухший вулкан Карадаг. Скалы, напоминающие очертаниями древних животных. Загадочные гроты. На берег накатываются «доисторические» волны Коктебельского залива. Под одной из них — или только показалось — блеснула огромная спина ихтиозавра. Гулкое стаккато копыт… и где-то высоко на одной из скал обозначилась тень кентавра. Мир Максимилиана Волошина. Мир его стихов.
…Для всех людей одни вериги:
Асфальты, рельсы, платья, книги,
И не спасётся ни один
От власти липких паутин.
Но мы, свободные кентавры,
Мы мудрый и бессмертный род,
В иные дни у брега вод
Ласкались к нам ихтиозавры.
И мир мельчал. Но мы росли.
В нас бег планет, в нас мысль Земли!

М. Волошин. Коктебель
А вот и сам поэт: его профиль удивительным образом «повторяет» замыкающая залив гряда скал…
Карадаг с высоты птичьего полёта. В одном из ущелий движется вереница людей. Впереди — плотный мужчина в белой свободной одежде, с посохом. Море смыкается с небом. Вот все уселись в кружок и слушают рассказы своего проводника. Мужчина в белом сидит на самом краю обрыва.
— Макс, неужели тебе не страшно?
— Ты знаешь, среди этих скал я чувствую себя, как старый кот на своём чердаке.
Заходит солнце. Путники спускаются с перевала.
— Макс, знаешь, как назвала тебя моя подруга? Великий Пан Коктебеля.
— Или придворный леший Карадага, — добавляет кто-то.
Все смеются. Кто-то выдает экспромт:
— Жил-был Пан. Вылезал вечерами из горного оврага, садился на песок и читал морским водорослям свои стихи. Прошли годы. Пан постарел, преуспел во многих человечьих науках, съездил в дальние страны. Вернулся в Коктебель. На пышноволосую голову в качестве нимба надел сапожный ремешок. Он больше не сидит по ночам у воды — Пан спит в кровати, но море, луну и горы по-прежнему воспевает в своих стихах и акварелях…

М. Волошин. Коктебель
Общий смех. Кто-то из девушек обращается к «Пану»:
— Ты что же, и в чудесах толк знаешь?
Макс медленно возлагает руки на травы, и они вспыхивают, загоревшись от закатного солнца. Все ошеломлены. Пылает огонь, и дым восходит к небу. Мужчина с внешностью древнегреческого бога или ассирийского жреца, опершись на посох, смотрит на огонь. И словно вызванная этим огнём памяти на фоне гор и вечереющего неба появляется одинокая фигура девушки. Она идёт медленно, думая о чём-то своём. И будто бы меняются кадры несуществующей киноленты. «Мгновенья полные, как годы…» Южный пейзаж сменяется северным, петербуржским. Холодно и пустынно за городом. Две чёрные фигуры на грязном снегу… Звучит выстрел. И крупным планом: расширенные от ужаса и недоумения глаза одного из дуэлянтов, полные холодной ненависти глаза другого… женская фигура застыла посреди ковыля и полыни…

Темнеет. Слышится лай собак, а вскоре появляются и они сами — свирепые помощницы чабанов, которые немного отстали. Отделившись от своих спутников, мужчина в белом подходит к собакам. Что-то спокойно им говорит. Те успокаиваются, виляют хвостами.
Уже совсем стемнело. Группа людей спустилась в долину.
— Макс, как это тебе удалось?
— Что удалось?
— Ну это, с огнём?
— С огнём у меня особые отношения. Однажды в гостях я стоял возле гардин — и они зажглись прямо у меня в руках. А на новый, 1914-й, год я был в Коктебеле один, и ко мне приехала Марина Цветаева. Я затопил печку, плита раскалилась, и возник пожар. Так начался для меня первый год Европейской войны…
— Макс, а отчего возникают войны?
— Оттого, что человеку однажды показалось, будто он подчинил себе духов природы; на самом же деле он сам попал к ним в подчинение, наделив их собственной жадностью и агрессивностью.
— Как это понять?
— Очень просто: мы убили божественную сущность вещей. И вот в этой самой обезбоженной природе начинают действовать силы, которые овладевают нашими страстями и волей.
— И поэтому…
— Поэтому… — Макс вдруг уходит в себя. Похоже, он импровизирует:
Поэтому за каждым новым
Разоблачением природы ждут
Тысячелетья рабства и насилий,
И жизнь нас учит, как слепых щенят,
И тычет носом долго и упорно
В кровавую расползшуюся жижу,
Покамест ненависть врага к врагу
Не сменится взаимным уваженьем…
Кто-то вставляет с оттенком иронии:
— И справедливым миропорядком?
Макс, едва заметно усмехаясь, продолжает:
Не веривший ли в справедливость
Приходил
К сознанию, что надо уничтожить
Для торжества её
Сначала всех людей?
…Не тот ли, кто принёс «не мир, а меч»,
В нас вдунул огнь, который
Язвит и жжёт, и будет жечь наш дух,
Доколе каждый
Таинственного слова не постигнет:
«Отмщенье Мне, и Аз воздам за зло».
И кажется, что вдалеке на горизонте появилась белая фигура, медленно идущая к ним «по лону вод». Кто это?.. Какой «себя забывший бог»?..

М. Волошин. Коктебель
У самой отмели что-то зашевелилось… Какое-то фантастическое существо. Волна выбрасывает на берег корягу. Это корень виноградной лозы… Нет, нечто большее: добродушная собачья морда, выпяченная вперёд нога… Танцующий посланник Диониса. Морской чёрт Габриах…
Ночное небо. Накатывается большая волна. Она с головой накрывает вошедшую в море женщину. У самого берега подрагивает на воде корень виноградной лозы, Габриах. Доносятся слова:
— Тебе меня отдали. Ты помнишь за меня. Ты мой бог. Я тебе молюсь, Макс!
— Лиля, не надо. Этого нельзя…
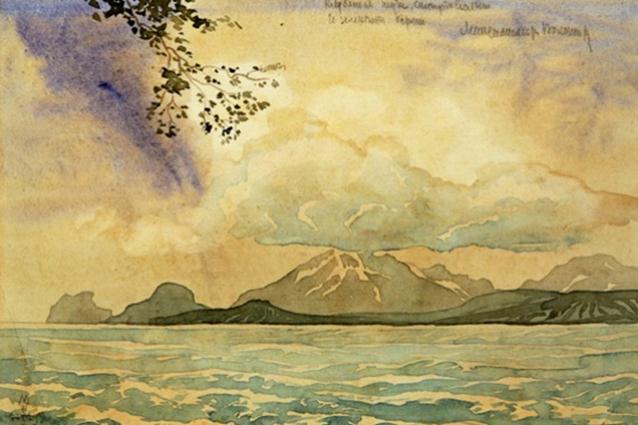
М. Волошин. Коктебель
По берегу моря медленно шествует таинственная женская фигура — вечерний наряд, широкополая шляпа. Бывший бес? Херувим в женском обличье? Мистическая фантазия в земной плоти — Черубина де Габриак…
Ступеньки узкой лестницы в доме неподалёку скрипят под ногами грузного человека. На стене — портрет широколицего бородача. То же лицо с трудом, но угадывается сквозь причудливое переплетение разноцветных квадратов, треугольников и ромбов — картина Диего Риверы в стиле кубизма. Многометровые полки с книгами… Шорохи волн и посвист ветра… И будто слышится: «Тут по ночам беседуют со мной / Историки, поэты, богословы…» Просоленные морем окаменелости, разнофигурные корни растений, обломок «корабля Одиссея», прибитый к стене… Фотография молодой узкоглазой красавицы с загадочной улыбкой на «змийных» устах… Доносятся слова из прошлого:
— Таиах… Она похожа на вас…
— Смотрите, у неё шевелятся губы!..
Москва. Просторная картинная галерея. На стенах полотна Мане, Ренуара, Дега, Гогена… Молодая девушка и возбуждённый поэт в качестве гида.
— Вы чувствуете, как свет рассеивает здесь безысходность? Эдуар Мане говорил: свет — главный сюжет произведения…

М. Волошин. Коктебель
— Вы так хорошо знаете и чувствуете французских художников…
— Не только французских. Русское искусство я люблю не меньше. Вот, например, Суриков… Вы знаете, я думаю написать о нём книгу.
— А как же французы?
— И о французах тоже.
Девушка улыбается. Поэт смотрит на неё с нежностью и по-своему объясняется в любви:
— Я хочу, чтобы вы поскорее приехали во Францию. Я покажу вам Париж. Мой Париж…
Парижская улица. Он и она прячутся под козырьком подъезда. Звучат стихи:
В дождь Париж расцветает,
Точно серая роза…
Шелестит, опьяняет
Влажной лаской наркоза.
— Это из нового? Почитайте ещё.
— Попробую вспомнить:
А по окнам, танцуя
Всё быстрее, быстрее,
И смеясь, и ликуя,
Вьются серые феи…
Пейзаж города сквозь пелену дождя. Молодые люди заскакивают в подъезд, быстро поднимаются по лестнице, держась за руки. За омытыми дождём окнами открывается причудливый и радостный Париж, почти что живопись импрессионистов. Всё волшебно, светло и размыто.
На синеющем лаке
Разбегаются блики…
В проносящемся мраке
Замутились их лики…
Сколько глазок несхожих!
И несутся в смятеньи,
И целуют прохожих,
И ласкают растенья…

М. Волошин. Коктебель
Поэт наклоняется к руке девушки. Она касается губами его волос и медленно отнимает руку…
Коктебель. На четырёхугольной вышке Дома Поэта стоит его хозяин, Максимилиан Волошин, вглядываясь в звёздную даль. Может быть, ему кажется, что совсем ещё юный отрок пробежал по одному из уступов Карадага, читая стихи…

К. Богаевский. В Коктебеле. Дом М. Волошина. 1905
Раневская Ф. Записки социальной психопатки / Фаина Раневская. –М.: АСТ, 2015. - 352 с. – (Уничтоженная биография)

Записки социальной психопатки
(фрагменты)
***
"Любилa, восхищaюсь Ахмaтовой. Стихи ее смолоду вошли в состaв моей крови", - писaлa Рaневскaя в дневнике.
И это былa чистaя прaвдa. Стихи Ахмaтовой, a потом и онaсaмaтaк прочно вошли в жизнь Рaневской, что теперь уже невозможно предстaвить их друг без другa. Великaя поэтессa и великaя aктрисa - они были нерaзрывно связaны до концa жизни.
 Ф. Раневская
Ф. Раневская
Их дружбa по-нaстоящему нaчaлaсь в Тaшкенте, во время Великой Отечественной войны, но познaкомились они горaздо рaньше. Рaневскaя тогдa, по ее собственным воспоминaниям, еще былa Фaиной Фельдмaн и жилa в Тaгaнроге. Онa прочлa стихи Ахмaтовой, влюбилaсь в них и твердо решилa познaкомиться с поэтессой. Поехaлa в Петербург, нaшлa квaртир уАхмaтовой и позвонилa в дверь.
"Открылa мне сaмa Аннa Андреевнa, - вспоминaлa онa. - Я, кaжется, скaзaлa: "Вы - мой поэт", - извинилaсь зa нaхaльство. Онa приглaсилa меня в комнaты. Дaрилa меня дружбой до концa своих дней". Ахмaтовa тогд aпоинтересовaлaсь у Фaины: "Вы пишете?" Но тa ответилa: "Никогдa не пытaлaсь. Поэтов не может быть много". Возможно, с этой фрaзы Ахмaтовa и присмотрелaсь к ней получше, выделив необычную девушку из числa своих многочисленных почитaтельниц.
***
С Цветaевой у Рaневской не возникло той глубокой нежной привязaнности, которaя связывaлa ее с Вульф, Гельцер или Ахмaтовой, но тем не менее, они сдружились и потом много лет общaлись и дaже поверяли друг другу секреты, которые не всем могли рaсскaзaть…
У Цветaевой онa нaучилaсь всегдa увaжaть творчество, дaже если оно выглядит не слишком понятным и дaже смешным. "Однaжды произошлa тaкaя встречa, - вспоминaлa онa, - в пору Грaждaнской войны, прогуливaясь по нaбережной Феодосии, я столкнулaсь с кaкой-то стрaнной, нелепой девицей, которaя предлaгaлa прохожим свои сочинения.
Я взялa тетрaдку, пролистaлa стихи. Они покaзaлись мне несурaзными, не очень понятными, и сaмaдевицaкосaя. Я, рaсхохотaвшись, вернулa хозяйке ее творение. И пройдя дaлее, вдруг зaметилa Цветaеву, побледневшую от гневa, услышaлa ее негодующий голос: "Кaк вы смеете, Фaинa, кaк вы смеете тaк рaзговaривaть с поэтом!"".
***
… Свой первый сезон в Крыму новоиспеченнaя Фaинa Рaневскaя открылa ролью Шaрлоты в "Вишневом сaде" Чеховa. И именно этa роль стaлa ее первым большим успехом.

В голодном рaзоренном Симферополе Фaинa Рaневскaя и Пaвлa Вульф сумели выжить во многом блaгодaряМaксимилиaну Волошину.
Именно он спaсaл их от голодной смерти. Рaневскaя вспоминaлa: "С утрa он появлялся с рюкзaкомзa спиной. В рюкзaке нaходились зaвернутые в гaзету мaленькие рыбешки, нaзывaемые кaмсой. Был тaм и хлеб, если это месиво можно было нaзвaть хлебом. Былa и бутылочкa с кaсторовым мaслом, с трудом рaздобытaя им в aптеке. Рыбешек жaрили в кaсторке…"
***
Дмитрий Шостaкович подaрил Рaневской фото с нaдписью: "Фaине Рaневской - сaмому искусству".
Познaкомил их Михaил Ромм. Было это в 1967 году, когдa Шостaкович, переживший и годы трaвли, и вынужденное вступление в пaртию, был уже признaнным гением и корифеем советской музыки. Рaневскaя ужaсно стеснялaсь, чувствуя себя неловко рядом с тaким великим человеком, и решилaсь только скaзaть ему, что ее потряс его восьмой квaртет. Нa следующий день Шостaкович прислaл ей плaстинки с зaписями всех своих квaртетов. А онa зaписaлa в дневнике:
"Мaленький, величественный, простой, скорбный.Ужaсно понрaвился.Скромный, знает ли, что он — гений?Нет, наверное».
***
«Писать мемуары — все равно что показывать свои вставные зубы», — говорил Гейне. Я скорее дам себя распять, чем напишу книгу «Сама о себе». Не раз начинала вести дневник, но всегда уничтожала написанное. Как можно выставлять себя напоказ? Это нескромно и, по-моему, отвратительно.

Пристают, просят писать, писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо — не хочется. Хорошо — неприлично. Значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки, а это постыдно. Это как клоп на манишке.
Я знаю самое главное, я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так доживаю с этой отдачей.
***
Воспоминания — это богатство старости.
***
«Я не умею выражать сильных чувств, зато умею сильно выражаться».
***
Впервые в кино. Обомлела. Фильм был в красках (вероятно, раскрашенный вручную, как позднее флаг в «Броненосце «Потемкине»), возможно, «Ромео и Джульетта». Мне лет 12. Я в экстазе, хорошо помню мое волнение. Схватила копилку в виде большой свиньи, набитую мелкими деньгами (плата за рыбий жир). Свинью разбиваю. Я в неистовстве — мне надо совершить что-то большое, необычное. По полу запрыгали монеты, которые я отдала соседским детям: «Берите, берите, мне ничего не нужно…» И сейчас мне тоже ничего не нужно — мне 80. Даже духи из Парижа, мне их прислали, — подарки друзей. Теперь перебираю в уме, кому бы их подарить… Экстазов давно не испытываю. Жизнь кончена, а я так и не узнала, что к чему.
Ребенка с первого класса школы надо учить науке одиночества.
Я социальная психопатка. Комсомолка с веслом.
Ахматова мне говорила: «Вы великая актриса». Ну да, я великая артистка, и поэтому я ничего не играю, меня надо сдать в музей. Я не великая артистка, а великая жопа.

Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи.
Жизнь бьет ключом по голове!
Эпикур говорил — хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался.
***
Жизнь отнимает у меня столько времени, что писать о ней совсем некогда.
Жизнь моя… Прожила около, все не удавалось. Как рыжий у ковра.
Жизнь проходит и не кланяется, как сердитая соседка.
Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй.
Ничего кроме отчаянья от невозможности что-либо изменить в моей судьбе.
Главное в том, чтоб себя сдерживать, — или я, или кто-то другой так решил, но это истина. С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней.
У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Живу только собою — какое самоограничение.
День кончился. Еще один напрасно прожитый день никому не нужной моей жизни.
Молодой человек! Я ведь помню порядочных людей… Боже, какая я старая!
Я как старая пальма на вокзале — никому не нужна, а выбросить жалко.
Не могу его есть (мясо): оно ходило, любило, смотрело… Может быть, я психопатка?
***
Вы знаете, милочка, что такое говно? Так вот оно по сравнению с моей жизнью — повидло.
— Как ваша жизнь, Фаина Георгиевна?
— Я вам еще в прошлом году говорила, что говно. Но тогда это был марципанчик.

Бог мой, как прошмыгнула жизнь. Я даже никогда не слышала, как поют соловьи.
Жизнь — это небольшая прогулка перед вечным сном.
Страшно грустна моя жизнь. А вы хотите, чтобы я воткнула в жопу куст сирени и делала перед вами стриптиз.
Теперь, в старости, я поняла, что «играть» ничего не надо.
***
Отвратительные паспортные данные. Посмотрела в паспорт, увидела, в каком году я родилась, и только ахнула.
Паспорт человека — это его несчастье, ибо человеку всегда должно быть восемнадцать лет, а паспорт лишь напоминает, что ты не можешь жить, как восемнадцатилетний человек!
Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда он позволяет доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я все живу. Бирма — и та умерла, а уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!
Старая харя не стала моей трагедией — в 22 года я уже гримировалась старухой и привыкла и полюбила старух моих в ролях. А недавно написала моей сверстнице: «Старухи, я любила вас, будьте бдительны!»
Старухи бывают ехидны, а к концу жизни бывают и стервы, и сплетницы, и негодяйки… Старухи, по моим наблюдениям, часто не обладают искусством быть старыми. А к старости надо добреть с утра до вечера!
Сегодня ночью думала о том, что самое страшное — это когда человек принадлежит не себе, а своему распаду.
***
Еду в Ленинград. На свидание. Накануне сходила в парикмахерскую. Посмотрелась в зеркало — все в порядке. Волнуюсь, как пройдет встреча. Настроение хорошее. И купе отличное, СВ, я одна.
В дверь постучали.
— Да-да!
Проводница:
— Чай будете?
— Пожалуй… Принесите стаканчик, — улыбнулась я.
Проводница прикрыла дверь, и я слышу ее крик на весь коридор:
— Нюся, дай чай старухе!
Всё. И куда я, дура, собралась, на что надеялась?! Нельзя ли повернуть поезд обратно?..

***
Старость — это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность.
Стареть скучно, но это единственный способ жить долго.
Или я старею и глупею, или нынешняя молодежь ни на что не похожа! Раньше я просто не знала, как отвечать на их вопросы, а теперь даже не понимаю, о чем они спрашивают.
Как-то в присутствии Раневской начали ругать современную молодежь.
— Вы правы, — согласилась актриса, — сегодняшняя молодежь ужасна.
И после паузы добавила:
— Но еще хуже то, что мы не принадлежим к ней.

***
Сейчас долго смотрела фото — глаза собаки человечны удивительно
Люблю их их, умны они и добры, но люди делают их злыми.
Читаю дневник Маклая, влюбилась и в Маклая, и в его дикарей.
Читаю Даррелла, у меня его душа, а ум курицы. Даррелл писатель изумительный, а его любовь к зверью делает его самым мне близким сегодня в злом мире.
— Моя собака живет лучше меня! — пошутила однажды Раневская. — Я наняла для нее домработницу. Так вот и получается, что она живет, как Сара Бернар, а я — как сенбернар…
***
Поняла, в чем мое несчастье: скорее поэт, доморощенный философ, «бытовая» дура — не лажу с бытом! Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть. У всех есть «приятельницы», у меня их нет и не может быть. Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я.
Мое богатство, очевидно, в том, что мне оно не нужно.
***
Талант - это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности.

***
Для меня всегда было загадкой — как великие актеры могли играть с артистами, от которых нечем заразиться, даже насморком. Как бы растолковать бездари: никто к вам не придет, потому что от вас нечего взять. Понятна моя мысль неглубокая?
… Ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться, и вся моя долгая жизнь в театре — Голгофа.
***
Говорят, что герой не тот, кто побеждает, а тот, кто смог остаться один. Я выстояла, даже оставаясь среди зверей, чтобы доиграть до конца. Зритель ни в чем не виновен…
***
Я родилась недовыявленной и ухожу из жизни не до показанной. Я недо… И в театре тоже…
Копшицер М. Валентин Серов / МаркКопшицер. – М. : Искусство, 1967. - 520 с. – (Жизнь в искусстве)

Валентин Серов
(отрывок)
На автопортрете 1909 года мы видим мрачного насупленного человека. Он закусил папиросу и сердито глядит исподлобья, повернувшись вполоборота. Через год он рисует шарж на себя. Он изображен в рост, в профиль: осунувшаяся фигура, подогнутые колени, мешковато сидящий костюм, надвинутая на лицо панама, сигара во рту и все то же сердитое выражение лица. Шарж назван: «Скучный Серов».
 В. Серов. Скучный Серов. Автопортрет. 1910
В. Серов. Скучный Серов. Автопортрет. 1910
Но когда он пересекал российскую границу, когда где-то там, позади, на пограничной станции, оставлял он красноносого жандарма и таможенного чиновника, он облегченно вздыхал. Конечно, эта была иллюзорная свобода, он был связан с Россией тысячью нитей, но все же те недели, что он проводил во Франции или в Италии, приносили облегчение. Там, где, как сказал некогда Некрасов, «до пас нужды, над нами прав ни у кого»,— там он веселел. «А приятно утром купить хорошую, свежую, душистую розу и с ней ехать на извозчике в Ватикан, что ли, или в Фарнезину»,— писал он жене.
Его старшая дочь, с которой он поехал на этот раз за границу, рассказывает, что он действительно (и это стало каким-то ритуалом) покупал утром розу и нес ее в руке или в зубах. Вместо сигары. Ну мог бы он показаться с розой во рту на петербургской или даже на московской улице?!
И в музеи он действительно любил ездить на извозчике. Он говорил, что, отправляясь в музей, не надо растрачивать сил на ходьбу.
Как в прошлом году Ульянова, водит он теперь свою дочь по Лувру, останавливает ее у картин, которые считает лучшими; у фрески Боттичелли говорит: «Можешь молиться»,— и отправляется работать, копировать персидские миниатюры. Потому что, собственно, приехал в Париж со специальной целью. Ему нужно выполнить две работы. Об одной знают все: занавес к балету «Шехеразада», и ради этой работы он изучает сейчас персидское искусство — она требует большой подготовки.
О второй — знают лишь избранные.
Эта работа была задумана еще прошлой осенью, когда он в балетах «Клеопатра» и «Шехеразада» увидел Иду Рубинштейн.
Балерина поразила его. Условным искусством балета она сумела передать подлинный, живой Восток и неподдельную древность.
Она напомнила ему древние барельефы, снимки с которых рассматривал он когда-то с Шаляпиным, и ему было радостно сознавать, что, может быть, благодаря ему утвердилось в театре искусство воссоздавать древность. Но вместе с тем то, что сделала Рубинштейн, было современностью. Это было свойственное искусству того времени слияние современности с древностью, это занимало в те годы и Серова, создававшего бесчисленные варианты «Европы» и «Навзикаи».
Весь театральный Париж был покорен артисткой. Итальянский поэт и драматург Габриэлед’Аннунцио преклонялся перед ней. Он писал для нее пьесу «Муки св. Себастьяна» и каждый день приходил к ней со своей женой Голубевой, очень красивой русской женщиной. Голубева, так же как и д’Аннунцио, была влюблена в Иду Рубинштейн.
Серов говорил, объясняя, почему он загорелся желанием написать ее портрет:
— Не каждый день бывают такие находки. Ведь этакое создание... Ну что перед ней все наши барыни? Да и глядит-то она куда? — в Египет!
В письме к жене Серов сообщает, что Ида Рубинштейн, пока он ненадолго оставив работу над портретом, поехал в Италию, успела побывать в Африке, где убила льва. Он говорил, что и у нее у самой рот раненой львицы...
Ида Львовна Рубинштейн происходила из очень богатой петербургской семьи.
Она сделала попытку начать свою артистическую карьеру в театре Комиссаржевской. Но ей не удалось сыграть там ни одной роли. Каждый день она приезжала в театр в роскошной карете, безмолвно выходила из нее, поражая всех своими необычными и дорогими туалетами, своими стрелообразными иссиня-черными бровями, нарисованными вокруг глаз ресницами, ярко накрашенными кораллового цвета губами, всем своим лицом, похожим на маску. Она безмолвно проходила в зрительный зал, усаживалась в глубине его и сидела там все время, пока шла репетиция. Потом уезжала, так и не проронив ни слова, даже ни с кем не поздоровавшись.
Конечно, она не могла долго оставаться у Комиссаржевской. Она не могла не увидеть в Комиссаржевской очень крупную и очень своеобразную актрису, тонко чувствующую современное искусство, но отзывающуюся на него совсем иначе, чем она, Ида Рубинштейн. Комиссаржевская была сама женственность, и она отзывалась в современном искусстве на лирические ноты, тогда как Иду Рубинштейн привлекал утонченный и острый психологизм, стилизация и экзотичность с налетом эротики. Единственная роль, которую она попыталась исполнить в театре Комиссаржевской, была роль Саломеи в пьесе Уайльда. Но постановка «Саломеи» была запрещена цензурой.
Уйдя из театра, Ида Рубинштейн попыталась поставить эту пьесу у себя дома, но она не могла создать обстановку, необходимую для серьезной работы, она видела на сцене только себя и только себя слушала. Дело окончилось, кажется, лишь изрядным количеством выпитого шампанского.
В страстном желании исполнить все же роль Саломеи она решила брать уроки танца у Фокина, чтобы выступить перед публикой хотя бы с фрагментом этой роли — «Танцем семи покрывал». В своих воспоминаниях Фокин отмечает удивительную настойчивость молодой актрисы. Оставив в Петербурге мужа, она летом 1908 года уехала с Фокиным и его женой в Швейцарию и там под его наблюдением продолжала заниматься.
У Фокина Ида Рубинштейн познакомилась с Дягилевым, и эта встреча определила ее судьбу. Под руководством Фокина, в обстановке всеобщего энтузиазма и дисциплины, царивших в дягилевской труппе, она добилась выдающихся результатов.
 В. Серов.Портрет Сергея Дягилева. 1904.
В. Серов.Портрет Сергея Дягилева. 1904.
«Мне казалось, что из нее можно сделать что-то необычное в стиле Бердслея,— писал Фокин.— Тонкая, высокая, красивая, она представляла интересный материал, из которого я надеялся «слепить» особенный сценический образ. Если эта надежда не совсем оправдалась при постановке «Саломеи», то в «Клеопатре» и «Шехеразаде» получилось то, что представлялось мне с первых моих уроков с И. JI. Рубинштейн».
Вот как описывает ее в роли Клеопатры один из русских художественных критиков Андрей Левинсон: «Предшествуемый музыкантами, несущими в руках инструменты невиданной и древней формы, стражей, роем рабов, выносится на сцену длинный закрытый ящик — паланкин. На руках рабов из-за выдвинутой стенки паланкина поднимается высокая и неподвижная фигура мумии на резных деревянных котурнах. Рабы, кружась вокруг нее, освобождают ее от покровов, которые падают один за другим. Когда скользнули последние путы, царица сходит с котурнов, полуобнаженная, нечеловечески-высокая, с волосами, покрытыми голубой пудрой; она направляется к ожидающему ее ложу; движение обнажает ногу более длинную и стройную, чем у сказочных образов прерафаэлитов».
Перекликаясь с этой характеристикой и с ранее приведенными словами из воспоминаний Фокина, Бенуа назвал Иду Рубинштейн «настоящим оживленным Бердслеем».
В другом месте своих воспоминаний Фокии пишет об исполнении Идой Рубинштейн роли Зобеиды в балете «Шехеразада». Фокин считает, что ее роль в этом балете — «удивительное достижение: большой силы впечатления она добивалась самыми экономными, минимальными средствами. Все выражалось одной позой, одним жестом, одним поворотом головы. Зато все было точно вычерчено, нарисовано. Каждая линия продумана и прочувствована. Вот она стоит у двери, из которой сейчас выйдет ее любовник. Она ждет его всем телом. Вот она рассержена, озлоблена отъездом мужа, это выражается в одном движении, когда он подходит ее поцеловать, а она отворачивается. Особенно значительным мне кажется момент, когда она сидит недвижно в то время, как кругом идет кровавое побоище. Смерть приближается к ней, но ни ужаса, ни страха. Величаво ждет в недвижной позе. Какая сила выражения без всякого движения!»

В. Серов.Портрет Иды Рубинштейн. 1910
Все это нужно было выразить в портрете: талантливость актрисы, ее экзотичность и экстравагантность, ее способность постигать старину и выражать современность, ее тело, которое представляло собой «сочетание совершенно прямых линий, наподобие плоской геометрической фигуры», и ее характер, за который ее называли «всепа- рижской каботинкой».
Серов писал ее в церкви того самого аббатства — «Шапель»,— куда он переселился в прошлый свой приезд и где остановился сейчас. Церковь была превращена им в художественную студию. Когда Ида Рубинштейн проходила по монастырскому двору, из всех окон бывших келий, где жили теперь главным образом артисты и художники, высовывались головы. Всем хотелось посмотреть на артистку — настолько необычна была ее внешность и настолько необычна была ее слава.
Артистке нравилось позировать знаменитому художнику, нравилось, что сеансы происходят в бывшей монастырской церкви и что она позирует здесь голой. Это было совершенно в ее духе. И ее искусственная поза с вывернутым, закрученным, точно винт, телом, и положение перекрещенных ног, одна из которых пересекается длинным тонким шарфом, словно бы удлиняющим эти ее и без того длинные ноги, и напряженность вытянутых рук, и пышный шиньон, оставляющий незакрытыми спереди ее блестящие черные волосы,— все это так или иначе раскрывает сложный и необычный характер Иды Рубинштейн.
Серов оставляет почти незакрашенным фон — голый холст,— и это как-то еще более обнажает женщину. Она ничем не защищена. Позади нее нет даже стены. Только сверху, в левом углу, у головы виден намек на арку. Она — в пролете, открытая всем ветрам.
Серов утрирует худобу Иды, подчеркивает особенности ее тела, «наподобие плоской геометрической фигуры». Он преднамеренно уплощает изображение, взывая этим к ассоциациям искушенного зрителя: изображение похоже на древний барельеф, вызванный к жизни искусством актрисы.
И колорит картины, подчеркнуто однообразный и чем-то напоминающий цвет пустыни, приближает ее изображение к каменному барельефу. Синие тона ложа только подчеркивают эти ассоциации.
Серов сделал в картине средствами живописи то, что Ида Рубинштейн совершала на сцене своей игрой: слил воедино древность и модерн.…Характер Иды Рубинштейн был выражен с исчерпывающей полнотой, в нем был воплощен и артистический образ, поразивший его, и образ современной женщины определенной среды.
Karginov G. «Rodschenko» / German Karginov. – Budapest : Corvina Kiado, 1976. – 268.
Каргинов Г. Родченко / Герман Каргинов. – Будапешт : Корвина, 1976. – 268 с. – На нем. яз. – Из Отдела редкого фонда ННБ.
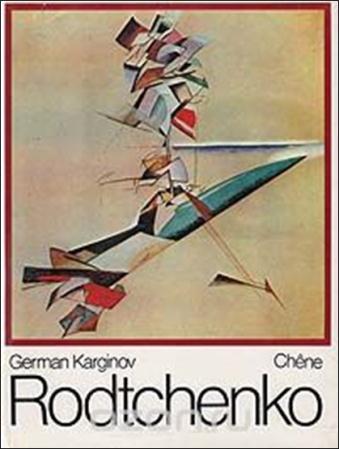
Наша справка:
Герман Каргинов - полиграфист, выпускник петербургского Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина.
В 1976 году Г. Каргинов написал книгу «Родченко» на немецком языке, где впервые попробовал объяснить все перипетии творчества Родченко: и живопись, и абстрактные конструкции, и оформление книг, рекламные плакаты, фотоискусство.
«Это издание тогда произвело некоторый переворот в восприятии Родченко, потому что его традиционно считали фотографом и плакатистом: был такой Родченко, книжки Маяковского оформлял, «Нигде кроме как в Моссельпроме» — и все. В живопись его особенно никто не вдавался. Но для западных историков искусства он был одной из ключевых фигур русского авангарда», - так отзывается о книге внук легендарного фотографа Александр Лаврентьев.
Наша справка:
Александр Михайлович Родченко (1891 -1956) – русский советский живописец, график, скульптор, фотограф, художник театра и кино. Один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР. Работал совместно со своей женой, художником-дизайнером Варварой Степановой.
Александр Родченко — гений советской пропаганды. Он был одним из самых талантливых креативщиков первой половины XX века. Это человек, который стоял у истоков русского авангарда, он задал новые стандарты дизайна и рекламы в СССР, он разломал все представления о плакате, графике, которые были до него и задал новый курс.
А. Родченко: «Мы создали новые представления о красоте и расширили само понятие искусства». А.Родченко. Записная книжка ЛЕФа: "Толчешься у предмета, здания или человека и думаешь, а как его снять: так, так или так?... Все старо... Так нас приучили, воспитывая тысячелетия на разных картинах, видеть все по правилам бабушкиной композиции. А нужно революционизировать людей видеть со всех точек и при всяком освещении».
 А. Родченко и В. Степанова
А. Родченко и В. Степанова
 А. Родченко, В. Маяковский, В. Мейерхольд и Д. Шостакович. На репетиции пьесы Маяковского «Клоп». Фото А. Темерина
А. Родченко, В. Маяковский, В. Мейерхольд и Д. Шостакович. На репетиции пьесы Маяковского «Клоп». Фото А. Темерина
«Rodschenko»
Республиканской научной библиотеке им. С.М. Кирова от автора.
27. 07. 1984 г. Герман Каргинов
В сопроводительной записке автора значится:
Монография посвящена жизни и творчеству известного советского художника Александра Михайловича Родченко (1891-1956), профессора ВХУТЕМАСа, мастера советской рекламы и фотографии, одного из зачинателей советской дизайнерской школы, друга и сподвижника В. Маяковского.
Книга издана будапештским издательством «Корвина» в 1976 году на немецком языке (издана также на венгерском, английском, французском, итальянском и польском языках). Рукопись монографии на русском языке хранится в библиотеке СО НИИ.
Живопись
 |  |
| Романс. Клоун с собакой | Всадница |
Композиция
 |  |  |
| Беспредметность |
 |  |  |  |
Фотография
 |  |  |
| Лестница | Девушка с «лейкой». 1934 | Полевые цветы. 1934 |
 |  |  |
| Пушкино. Сосны. 1927 | Владимир Маяковский | В. Маяковский со Скотиком |
 |  |  |
| Лиля Брик. Снимок для рекламного плаката | Красная армия. Маневры. Красноармеец на воздушном шаре. 1924. | Красная армия. Маневры. Воздушные шары. 1924. |
 |  |  |
| Пешеходы. 1928 | Значок ГТО | Рабочий клуб. Читальный зал |
Реклама
 |  |  |
| Рекламный плакат для кинохроники Дзиги Вертова. 1924. | Рекламный плакат к фильму «Броненосец Потемкин». |
 |  |  |
Фотомонтаж
 |  |
| Иллюстрация к поэме В. Маяковского «Про это» | Иллюстрация к поэме В. Маяковского «Про это» |
Георгий Свиридов. Музыка как судьба /сост. А.С. Белоненко. – М.: Молодая гвардия, 2002. – 800 с. – («Библиотека мемуаров: Близкое прошлое»).
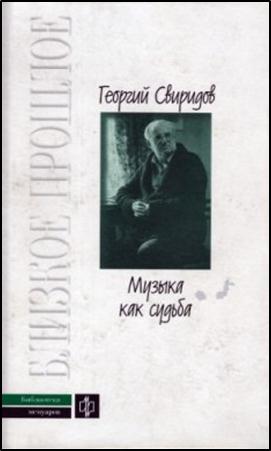
Музыка как судьба
***
«Я хочу говорить так, чтобы меня понимали, понимали смысл того, о чем я хочу говорить. Я хочу, чтобы меня, прежде всего, понимали те, кто понимает мой родной язык.
Стучусь в равнодушные сердца, до них хочу достучаться, разбудить их к жизни, сказать о ней свои слова, о том, что жизнь не так плоха, что в ней много скрытого хорошего, благородного, чистого, свежего. Но слушать не хотят, им подавай «Вальс» из «Метели»...
Те же, кто считает себя знающими любителями искусства, с ними мне совсем нечего делать. Их интересует искусство — как побрякушка, секрет которой им потребно разгадать, и в этом — все их удовольствие. О какой-либо сущности искусства нет и речи, наоборот, ценится «искусство» без всякой сущности, без души, без восторга.
 Георгий Свиридов
Георгий Свиридов
«Мира восторг беспредельный — сердцу певучему дан». Это — и есть драгоценная ноша художника, драгоценный божественный изначальный дар. Без него искусство мертво, это всего лишь пустая побрякушка.
Она может быть примитивно-простой или замысловатой, это не играет никакой роли; и в том и в другом случае она не содержит в себе жизни, ибо великое искусство всегда живое искусство именно.
Теперь же часто производится и усиленно насаждается искусство от рождения мертвое, игра ума при сухости сердца. Между тем Великие творцы напоены, можно сказать, божественным восторгом, вспомните, например, Вагнера или Мусоргского».
***
Искусство нашего века несет большую ответственность за то, что оно настоятельно и талантливо проповедовало бездуховность, гедонизм, нравственный комфорт, кастовую, интеллигентскую избранность, интеллектуальное наслажденчество и еще того хуже: упоенно воспевало и поэтизировало всякого вида зло, служа ему и получая от этого удовлетворение своему ненасытному честолюбию, видя в нем освежение, обновление мира. Все это, несомненно, нанесло огромный вред человеческой душе, понизив уровень ее духовного насыщения до минимума, почти до нуля.
Дело добра могло бы казаться совершенно безнадежным, ибо души, подвергшиеся столь сильной обработке и омертвлению, воскресить, пожалуй, уже невозможно. Но мудрость жизни заключена в ней же самой: новые поколения приходят в мир вполне чистыми, значит, дело в том, чтобы их воспитать в служении высокому добру. Неимоверная сила, которую обрело зло в искусстве, зависит в значительной мере от захвата им способов самоутверждения, саморекламы, самопропаганды, т. е. прессы, критики, учебных заведений, антрепризы и т. д.
Один лишь театр, концертный зал, журнал или газета, профессор в консерватории может приносить уже много пользы (хотя бы и один). Ибо он сеет семена добра, и нельзя себе представить, чтобы все они погибли.
Зло старается изолировать, ошельмовать, уничтожить или опорочить таких людей... Но так бывало часто и раньше (если не всегда). Однако нынешнее время — особо «злостное».
Моя музыка — некоторая маленькая свеча «из телесного воска», горящая в бездонном мире преисподней.


Разумеется, всех ревнителей «модерна», «музпрогресса» и т. д. нельзя записать в адепты зла, нет! Многое здесь идет и от непонимания, от легкомыслия, от инерции, от желания успеха, которое лежит в основе «творческой посылки» многих композиторов, в том числе и талантливых.
***
На свете было много людей знаменитых, особенно сконцентрировавших в себе зло и обладавших, притом, огромной, иногда прямо-таки беспутной властью для осуществления этого зла: Гитлер, Римские Цезари, Нерон, Калигула, Тиберий, Иван Грозный. Но много ли было людей активно добрых и обладавших властью творить добро? Много ли их в наше время? Много ли активно творящих добро, не по случаю или другим побуждениям, а по самому желанию творить именно доброе?

***
Вся жизнь (видимая) — ложь, постоянная ложь. Все уже привыкли к этому. Мы живем, окруженные морем лжи. Дети и родители, мужья и жены, общества, континенты, целые народы живут в полной неправде. Отношения человеческие (видимые нами), государственные, деловые — ложь.
Правда возникает лишь на особо большой глубине человеческих отношений, возникает редко и существует, как правило, короткий срок. Потому-то так ценна всякая правда, даже самая малая, т. е. касающаяся как бы малых дел. Правда существует в великом искусстве, но не во всяком искусстве, считающемся великим.
В оценках (узаконенных как бы временем) тоже многое — неправда. Лживого искусства также очень много. Вот почему так воздействует искусство Рембрандта, Мусоргского, Шумана, Ван Гога, Достоевского, Шекспира и др. великих художников. Но не всё правда даже в этом великом искусстве, часто ее искажает, например, красота (эстетизм!), ремесленное начало искусства; например, у Баха много фальшивого, пустого искусства (фуги и др.). Есть неправда от позы художника, от самой неправды его души и от многих других причин…

Музыкантская среда полупрезрительно относится к Верди и Пуччини, не говоря уже о Леонкавалло, Масканьи. Между тем все это — гениальные композиторы, гениальные художники, произведения которых не устарели и сохранили огромную силу воздействия. Опера Леонкавалло «Паяцы» относится к числу тех подлинно гениальных произведений, влияние которых было исключительно велико и ощущалось не только (музыкантами) в оперном искусстве. Если взять нашу русскую художественную жизнь, то можно с несомненностью сказать, что воздействие этой оперы ощущается в таких, например, произведениях, как драма Блока «Балаганчик», балет Бенуа и Стравинского «Петрушка».
Точно так же, как и воздействие «Кармен», отзвуки музыки Бизе чувствуются в русской живописи начала нашего века, например у Коровина, Врубеля (его цыганки), у Рахманинова…
Подлинно гениальное, подлинно великое не должно быть доведено до крайности. Оно сохраняет черты правдоподобия, оно как бы существует в жизни, оно увидено в жизни. Это не доведено до истеризма, до ужаса.
Выходит так, что истинно трагическое остается прекрасным. «Кармен», несмотря на весь трагизм своего содержания, несмотря на гигантскую силу своего воздействия, остается красивым произведением, это — красивая музыка, это произведение прекрасно, соразмерно, поразительно мелодично (мелодии эти необыкновенно красивы). Герои не кричат, не вопят, оркестр лишен какой-либо громоздкости, брутальности — классичен, строг. Он не надрывается. Музыка «Кармен» предельно проста…
 Георгий Свиридов и Елена Образцова
Георгий Свиридов и Елена Образцова
***
Художник различает свет, как бы ни был мал иной раз источник, и возглашает этот свет. Чем ни более он стихийно одарен, тем интенсивней он возглашает о том, что видит этот свет, эту вспышку, протуберанец. Пример тому - Великие русские поэты: Горький, Блок, Есенин, Маяковский, видевшие в Революции свет надежды, источник глубоких и благотворных для мира перемен…
***
Неправильно пишут о моем пристрастии к литературе или что я считаю литературу первой в иерархии искусств. Последнее — совсем чепуха.
Я же пристрастен к слову (!!!), как к началу начал, сокровенной сущности жизни и мира. Литература же и ее собственные формы — это совсем иное. Многое мне в этом (в литературе собственно) чуждо. Наиболее действенным из искусств представляется мне синтез слова и музыки. Этим я и занимаюсь.

О главном для меня
Художник призван служить, по мере своих сил, раскрытию Истины Мира. В синтезе Музыки и Слова может быть заключена эта истина…
Слово несет в себе Мысль о Мире (ибо оно предназначено для выражения Мысли). Музыка же несет Чувство, Ощущение, Душу Мира. Вместе они образуют Истину Мира.











