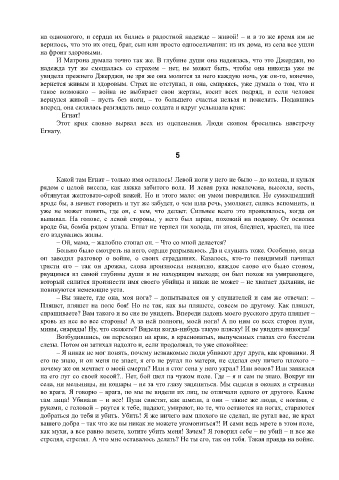Page 41 - МАТРОНА
P. 41
на одноногого, и сердца их бились в радостной надежде – живой! – и в то же время им не
верилось, что это их отец, брат, сын или просто односельчанин: из их дома, из села все ушли
на фронт здоровыми.
И Матрона думала точно так же. В глубине души она надеялась, что это Джерджи, но
надежда тут же смешалась со страхом – нет, не может быть, чтобы она никогда уже не
увидела прежнего Джерджи, не зря же она молится за него каждую ночь, уж он-то, конечно,
вернется живым и здоровым. Страх не отступал, и она, смиряясь, уже думала о том, что и
такое возможно – война не выбирает свои жертвы, косит всех подряд, и если человек
вернулся живой – пусть без ноги, – то большего счастья нельзя и пожелать. Подавшись
вперед, она силилась разглядеть лицо солдата и вдруг услышала крик:
– Егнат!
Этот крик словно вырвал всех из оцепенения. Люди скопом бросились навстречу
Егнату.
5
Какой там Егнат – только имя осталось! Левой ноги у него не было – до колена, и культя
рядом с целой висела, как ляжка забитого вола. И левая рука искалечена, высохла, кость,
обтянутая желтовато-серой кожей. Но и этого мало: он умом повредился. Не сумасшедший
вроде бы, а начнет говорить и тут же забудет, о чем шла речь, умолкнет, силясь вспомнить, и
уже не может понять, где он, с кем, что делает. Сильнее всего это проявлялось, когда он
выпивал. На голове, с левой стороны, у него был шрам, похожий на подкову. От осколка
вроде бы, бомба рядом упала. Егнат не терпел ни холода, ни зноя, бледнел, краснел, на шее
его вздувались жилы.
– Ой, мама, – жалобно стонал он. – Что со мной делается?
Больно было смотреть на него, сердце разрывалось. Да и слушать тоже. Особенно, когда
он заводил разговор о войне, о своих страданиях. Казалось, кто-то невидимый начинал
трясти его – так он дрожал, слова произносил невнятно, каждое слово его было стоном,
рвущимся из самой глубины души и не находящим выхода; он был похож на умирающего,
который силится произнести имя своего убийцы и никак не может – не хватает дыхания, не
повинуются немеющие уста.
– Вы знаете, где она, моя нога? – допытывался он у слушателей и сам же отвечал: –
Пляшет, пляшет на поле боя! Но не так, как вы пляшете, совсем по другому. Как пляшет,
спрашиваете? Вам такого и во сне не увидеть. Впереди ладонь моего русского друга пляшет –
кровь из нее во все стороны! А за ней полноги, моей ноги! А по ним со всех сторон пули,
мины, снаряды! Ну, что скажете? Видели когда-нибудь такую пляску! И не увидите никогда!
Возбудившись, он переходил на крик, в красноватых, выпученных глазах его блестели
слезы. Потом он затихал надолго и, если продолжал, то уже спокойнее:
– Я никак не мог понять, почему незнакомые люди убивают друг друга, как кровники. Я
его не знаю, и он меня не знает, я его не ругал по матери, не сделал ему ничего плохого –
почему же он мечтает о моей смерти? Или я стог сена у него украл? Или волов? Или заявился
на его луг со своей косой?.. Нет, бой шел на чужом поле. Где – я и сам не знаю. Вокруг ни
села, ни мельницы, ни кошары – не за что глазу зацепиться. Мы сидели в окопах и стреляли
во врага. Я говорю – врага, но мы не видели их лиц, не отличали одного от другого. Какие
там лица! Убивали – и все! Пули свистят, как шмели, а они – такие же люди, с ногами, с
руками, с головой – рвутся к тебе, падают, умирают, но те, что остаются на ногах, стараются
добраться до тебя и убить. Убить! Я же ничего вам плохого не сделал, не ругал вас, не крал
вашего добра – так что же вы никак не можете угомониться?! И сами ведь мрете в этом поле,
как мухи, а все равно лезете, хотите убить меня! Зачем? Я говорил себе – не убий – и все же
стрелял, стрелял. А что мне оставалось делать? Не ты его, так он тебя. Такая правда на войне.