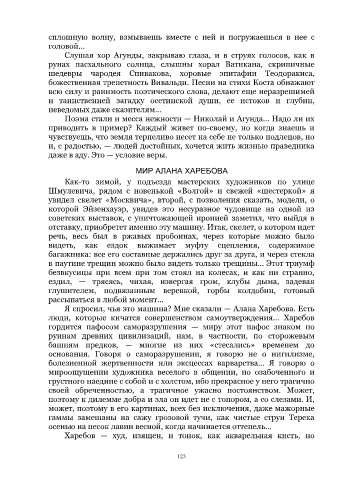Page 125 - ГУДИЕВ - ВЕРШИНЫ
P. 125
сплошную волну, взмываешь вместе с ней и погружаешься в нее с
головой...
Слушая хор Агунды, закрываю глаза, и в струях голосов, как в
рунах пасхального солнца, слышны хорал Ватикана, скрипичные
шедевры чародея Спивакова, хоровые эпитафии Теодоракиса,
божественная трепетность Вивальди. Песни на стихи Коста обнажают
всю силу и ранимость поэтического слова, делают еще неразрешимей
и таинственней загадку осетинской души, ее истоков и глубин,
неведомых даже сказителям...
Поэма стали и месса нежности — Николай и Агунда... Надо ли их
приводить в пример? Каждый живет по-своему, но когда знаешь и
чувствуешь, что земля терпеливо несет на себе не только подлецов, но
и, с радостью, — людей достойных, хочется жить жизнью праведника
даже в аду. Это — условие веры.
МИР АЛАНА ХАРЕБОВА
Как-то зимой, у подъезда мастерских художников по улице
Шмулевича, рядом с новенькой «Волгой» и свежей «шестеркой» я
увидел скелет «Москвича», второй, с позволения сказать, модели, о
которой Эйзенхауэр, увидев это несуразное чудовище на одной из
советских выставок, с уничтожающей иронией заметил, что выйдя в
отставку, приобретет именно эту машину. Итак, скелет, о котором идет
речь, весь был в ржавых пробоинах, через которые можно было
видеть, как ездок выжимает муфту сцепления, содержимое
багажника: все его составные держались друг за друга, и через стекла
в паутине трещин можно было видеть только трещины... Этот триумф
безвкусицы при всем при том стоял на колесах, и как ни странно,
ездил, — трясясь, чихая, извергая гром, клубы дыма, задевая
глушителем, подвязанным веревкой, горбы колдобин, готовый
рассыпаться в любой момент...
Я спросил, чья это машина? Мне сказали — Алана Харебова. Есть
люди, которые кичатся совершенством самоутверждения... Харебов
гордится пафосом саморазрушения — миру этот пафос знаком по
руинам древних цивилизаций, нам, в частности, по сторожевым
башням предков, — многие из них «стесались» временем до
основания. Говоря о саморазрушении, я говорю не о нигилизме,
болезненной жертвенности или эксцессах варварства... Я говорю о
мироощущении художника веселого в общении, но озабоченного и
грустного наедине с собой и с холстом, ибо прекрасное у него трагично
своей обреченностью, а трагичное ужасно постоянством. Может,
поэтому к дилемме добра и зла он идет не с топором, а со слезами. И,
может, поэтому в его картинах, всех без исключения, даже мажорные
гаммы замешаны на сажу грозовой тучи, как чистые струи Терека
осенью на песок лавин весной, когда начинается оттепель...
Харебов — худ, изящен, и тонок, как акварельная кисть, но
123