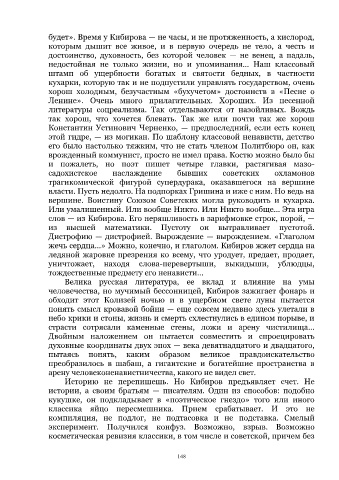Page 150 - ГУДИЕВ - ВЕРШИНЫ
P. 150
будет». Время у Кибирова — не часы, и не протяженность, а кислород,
которым дышит все живое, и в первую очередь не тело, а честь и
достоинство, духовность, без которой человек — не венец, а падаль,
недостойная не только жизни, но и упоминания... Наш классовый
штамп об ущербности богатых и святости бедных, в частности
кухарки, которую так и не подпустили управлять государством, очень
хорош холодным, безучастным «бухучетом» достоинств в «Песне о
Ленине». Очень много прилагательных. Хороших. Из песенной
литературы соцреализма. Так отделываются от назойливых. Вождь
так хорош, что хочется блевать. Так же или почти так же хорош
Константин Устинович Черненко, — предпоследний, если есть конец
этой гидре, — из могикан. По шаблону классовой ненависти, детство
его было настолько тяжким, что не стать членом Политбюро он, как
врожденный коммунист, просто не имел права. Костю можно было бы
и пожалеть, но поэт пишет четыре главки, растягивая мазо-
садохистское наслаждение бывших советских охламонов
трагикомической фигурой супердурака, оказавшегося на вершине
власти. Пусть недолго. На подпорках Гришина и иже с ним. Но ведь на
вершине. Воистину Союзом Советских могла руководить и кухарка.
Или умалишенный. Или вообще Никто. Или Никто вообще... Эта игра
слов — из Кибирова. Его неряшливость в зарифмовке строк, порой, —
из высшей математики. Пустоту он вытравливает пустотой.
Дистрофию — дистрофией. Вырождение — вырождением. «Глаголом
жечь сердца...» Можно, конечно, и глаголом. Кибиров жжет сердца на
ледяной жаровне презрения ко всему, что уродует, предает, продает,
уничтожает, находя слова-перевертыши, выкидыши, ублюдцы,
тождественные предмету его ненависти...
Велика русская литература, ее вклад и влияние на умы
человечества, но мучимый бессонницей, Кибиров зажигает фонарь и
обходит этот Колизей ночью и в ущербном свете луны пытается
понять смысл кровавой бойни — еще совсем недавно здесь улетали в
небо крики и стоны, жизнь и смерть схлестнулись в едином порыве, и
страсти сотрясали каменные стены, ложи и арену чистилища...
Двойным наложением он пытается совместить и спроецировать
духовные координаты двух эпох — века девятнадцатого и двадцатого,
пытаясь понять, каким образом великое правдоискательство
преобразилось в шабаш, а гигантские и богатейшие пространства в
арену человеконенавистничества, какого не видел свет.
Историю не перепишешь. Но Кибиров предъявляет счет. Не
истории, а своим братьям — писателям. Один из способов: подобно
кукушке, он подкладывает в «поэтическое гнездо» того или иного
классика яйцо пересмешника. Прием срабатывает. И это не
компиляция, не подлог, не подтасовка и не подставка. Смелый
эксперимент. Получился конфуз. Возможно, взрыв. Возможно
косметическая ревизия классики, в том числе и советской, причем без
148