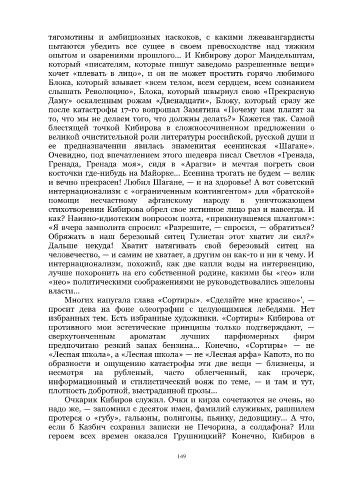Page 151 - ГУДИЕВ - ВЕРШИНЫ
P. 151
тягомотины и амбициозных наскоков, с какими лжеавангардисты
пытаются убедить все сущее в своем превосходстве над тяжким
опытом и озарениями прошлого... И Кибирову дорог Мандельштам,
который «писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи»
хочет «плевать в лицо», и он не может простить горячо любимого
Блока, который взывает «всем телом, всем сердцем, всем сознанием
слышать Революцию», Блока, который швырнул свою «Прекрасную
Даму» оскаленным рожам «Двенадцати», Блоку, который сразу же
после катастрофы 17-го вопрошал Замятина «Почему нам платят за
то, что мы не делаем того, что должны делать?» Кажется так. Самой
блестящей точкой Кибирова в сложносочиненном предложении о
великой очистительной роли литературы российской, русской души и
ее предназначении явилась знаменитая есенинская «Шагане».
Очевидно, под впечатлением этого шедевра писал Светлов «Гренада,
Гренада, Гренада моя», сидя в «Арагви» и мечтая погреть свои
косточки где-нибудь на Майорке... Есенина трогать не будем — велик
и вечно прекрасен! Любил Шагане, — и на здоровье! А вот советский
интернационализм с «ограниченным контингентом» для «братской»
помощи несчастному афганскому народу в уничтожающем
стихотворении Кибирова обрел свое истинное лицо раз и навсегда. И
как? Наивно-идиотским вопросом поэта, «прикинувшемся шлангом»:
«Я вчера замполита спросил: «Разрешите, — спросил, — обратиться?
Обряжать в наш березовый ситец Гулистан этот хватит ли сил?»
Дальше некуда! Хватит натягивать свой березовый ситец на
человечество, — и самим не хватает, а другим он как-то и ни к чему. И
интернационализм, похожий, как две капли воды на интервенцию,
лучше похоронить на его собственной родине, какими бы «гео» или
«нео» политическими соображениями не руководствовались эшелоны
власти...
Многих напугала глава «Сортиры». «Сделайте мне красиво»', —
просит дева на фоне олеографии с целующимися лебедями. Нет
избранных тем. Есть избранные художники. «Сортиры» Кибирова от
противного мои эстетические принципы только подтверждают, —
сверхутонченным ароматам лучших парфюмерных фирм
предпочитаю резкий запах бензина... Конечно, «Сортиры» — не
«Лесная школа», а «Лесная школа» — не «Лесная арфа» Капотэ, но по
образности и ощущению катастрофы эти две вещи — близнецы, и
несмотря на рубленый, часто облегченный, как прочерк,
информационный и стилистический вояж по теме, — и там и тут,
плотность добротной, выстраданной прозы...
Очкарик Кибиров служил. Очки и кирза сочетаются не очень, но
надо же, — запомнил с десяток имен, фамилий служивых, рашпилем
протерся о «губу», гальюны, полигоны, пьянку, дедовщину... А что,
если б Казбич сохранил записки не Печорина, а солдафона? Или
героем всех времен оказался Грушницкий? Конечно, Кибиров в
149