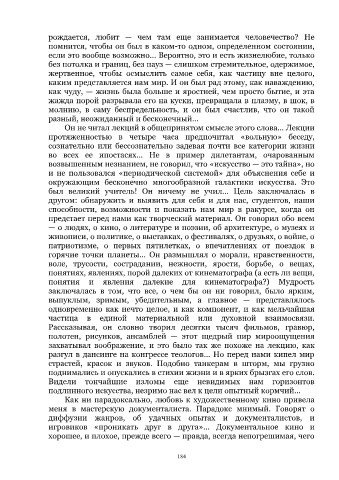Page 186 - ГУДИЕВ - ВЕРШИНЫ
P. 186
рождается, любит — чем там еще занимается человечество? Не
помнится, чтобы он был в каком-то одном, определенном состоянии,
если это вообще возможно... Вероятно, это и есть жизнелюбие, только
без потолка и границ, без пауз — слишком стремительное, одержимое,
жертвенное, чтобы осмыслить самое себя, как частицу вне целого,
каким представляется нам мир. И он был рад этому, как наваждению,
как чуду, — жизнь была больше и яростней, чем просто бытие, и эта
жажда порой разрывала его на куски, превращала в плазму, в шок, в
молнию, в саму беспредельность, и он был счастлив, что он такой
разный, неожиданный и бесконечный...
Он не читал лекций в общепринятом смысле этого слова... Лекции
протяженностью в четыре часа предпочитал «вольную» беседу,
сознательно или бессознательно задевая почти все категории жизни
во всех ее ипостасях... Не в пример дилетантам, очарованным
возвышенным незнанием, не говорил, что «искусство — это тайна», но
и не пользовался «периодической системой» для объяснения себе и
окружающим бесконечно многообразной галактики искусства. Это
был великий учитель! Он ничему не учил... Цель заключалась в
другом: обнаружить и выявить для себя и для нас, студентов, наши
способности, возможности и показать нам мир в ракурсе, когда он
предстает перед нами как творческий материал. Он говорил обо всем
— о людях, о кино, о литературе и поэзии, об архитектуре, о музеях и
живописи, о политике, о выставках, о фестивалях, о друзьях, о войне, о
патриотизме, о первых пятилетках, о впечатлениях от поездок в
горячие точки планеты... Он размышлял о морали, нравственности,
воле, трусости, сострадании, нежности, ярости, борьбе, о вещах,
понятиях, явлениях, порой далеких от кинематографа (а есть ли вещи,
понятия и явления далекие для кинематографа?) Мудрость
заключалась в том, что все, о чем бы он ни говорил, было ярким,
выпуклым, зримым, убедительным, а главное — представлялось
одновременно как нечто целое, и как компонент, и как мельчайшая
частица в единой материальной или духовной взаимосвязи.
Рассказывая, он словно творил десятки тысяч фильмов, гравюр,
полотен, рисунков, ансамблей — этот щедрый пир мироощущения
захватывал воображение, и это было так же похоже на лекцию, как
разгул в дансинге на конгрессе теологов... Но перед нами кипел мир
страстей, красок и звуков. Подобно танкерам в шторм, мы грузно
поднимались и опускались в стихии жизни и в ярких брызгах его слов.
Видели тончайшие изломы еще невидимых нам горизонтов
подлинного искусства, незримо нас вел к цели опытный кормчий...
Как ни парадоксально, любовь к художественному кино привела
меня в мастерскую документалиста. Парадокс мнимый. Говорят о
диффузии жанров, об удачных опытах и документалистов, и
игровиков «проникать друг в друга»... Документальное кино и
хорошее, и плохое, прежде всего — правда, всегда непогрешимая, чего
184