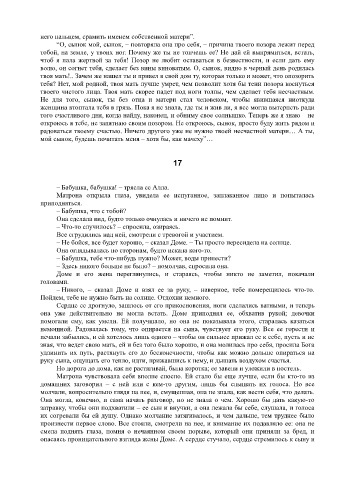Page 114 - МАТРОНА
P. 114
него пальцем, срамить именем собственной матери”.
“О, сынок мой, сынок, – повторяла она про себя, – причина твоего позора лежит перед
тобой, на земле, у твоих ног. Почему же ты не топчешь ее? Не дай ей выпрямиться, встать,
чтоб я пала жертвой за тебя! Позор не любит оставаться в безвестности, и если дать ему
волю, он согнет тебя, сделает без вины виноватым. О, сынок, видно в черный день родилась
твоя мать!.. Зачем же нашел ты и привел в свой дом ту, которая только и может, что опозорить
тебя? Нет, мой родной, твоя мать лучше умрет, чем позволит хотя бы тени позора коснуться
твоего чистого лица. Твоя мать скорее падет под ноги толпы, чем сделает тебя несчастным.
Не для того, сынок, ты без отца и матери стал человеком, чтобы явившаяся ниоткуда
женщина втоптала тебя в грязь. Пока я не знала, где ты и жив ли, я все могла вытерпеть ради
того счастливого дня, когда найду, наконец, и обниму свое солнышко. Теперь же я знаю – не
откроюсь я тебе, не запятнаю своим позором. Не откроюсь, сынок, просто буду жить рядом и
радоваться твоему счастью. Ничего другого уже не нужно твоей несчастной матери… А ты,
мой сынок, будешь почитать меня – хотя бы, как мачеху”…
17
– Бабушка, бабушка! – трясла ее Алла.
Матрона открыла глаза, увидела ее испуганное, заплаканное лицо и попыталась
приподняться.
– Бабушка, что с тобой?
Она сделала вид, будто только очнулась и ничего не помнит.
– Что-то случилось? – спросила, озираясь.
Все сгрудились над ней, смотрели с тревогой и участием.
– Не бойся, все будет хорошо, – сказал Доме. – Ты просто пересидела на солнце.
Она оглядывалась по сторонам, будто искала кого-то.
– Бабушка, тебе что-нибудь нужно? Может, воды принести?
– Здесь никого больше не было? – помолчав, спросила она.
Доме и его жена переглянулись, и стараясь, чтобы никто не заметил, покачали
головами.
– Никого, – сказал Доме и взял ее за руку, – наверное, тебе померещилось что-то.
Пойдем, тебе не нужно быть на солнце. Отдохни немного.
Сердце ее дрогнуло, зашлось от его прикосновения, ноги сделались ватными, и теперь
она уже действительно не могла встать. Доме приподнял ее, обхватив рукой; девочки
помогали ему, как умели. Ей получшало, но она не показывала этого, старалась казаться
немощной. Радовалась тому, что опирается на сына, чувствует его руку. Все ее горести и
печали забылись, и ей хотелось лишь одного – чтобы он сильнее прижал ее к себе, пусть и не
зная, что ведет свою мать, ей и без того было хорошо, и она молилась про себя, просила Бога
удлинить их путь, растянуть его до бесконечности, чтобы как можно дольше опираться на
руку сына, ощущать его тепло, идти, прижавшись к нему, и дышать воздухом счастья.
Но дорога до дома, как не растягивай, была коротка; ее завели и уложили в постель.
Матрона чувствовала себя вполне сносно. Ей стало бы еще лучше, если бы кто-то из
домашних заговорил – с ней или с кем-то другим, лишь бы слышать их голоса. Но все
молчали, вопросительно глядя на нее, и, смущенная, она не знала, как вести себя, что делать.
Она могла, конечно, и сама начать разговор, но не знала о чем. Хорошо бы дать какую-то
затравку, чтобы они подхватили – ее сын и внучки, а она лежала бы себе, слушала, и голоса
их согревали бы ей душу. Однако молчание затягивалось, и чем дальше, тем труднее было
произнести первое слово. Все стояли, смотрели на нее, и внимание их подавляло ее: она не
смела поднять глаза, помня о нечаянном своем порыве, который они приняли за бред, и
опасаясь проницательного взгляда жены Доме. А сердце стучало, сердце стремилось к сыну и