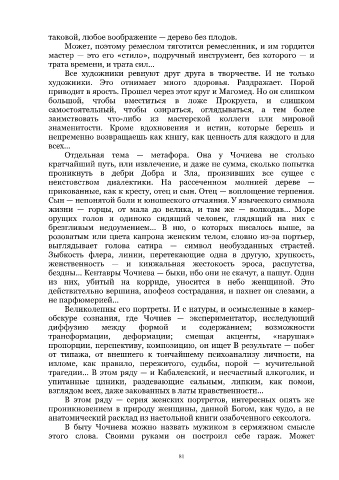Page 83 - ГУДИЕВ - ВЕРШИНЫ
P. 83
таковой, любое воображение — дерево без плодов.
Может, поэтому ремеслом тяготится ремесленник, и им гордится
мастер — это его «стило», подручный инструмент, без которого — и
трата времени, и трата сил...
Все художники ревнуют друг друга в творчестве. И не только
художники. Это отнимает много здоровья. Раздражает. Порой
приводит в ярость. Прошел через этот круг и Магомед. Но он слишком
большой, чтобы вместиться в ложе Прокруста, и слишком
самостоятельный, чтобы озираться, оглядываться, а тем более
заимствовать что-либо из мастерской коллеги или мировой
знаменитости. Кроме вдохновения и истин, которые берешь и
непременно возвращаешь как книгу, как ценность для каждого и для
всех...
Отдельная тема — метафора. Она у Чочиева не столько
кратчайший путь, или извлечение, и даже не сумма, сколько попытка
проникнуть в дебри Добра и Зла, пронзивших все сущее с
неистовством диалектики. На рассеченном молнией дереве —
прикованные, как к кресту, отец и сын. Отец — воплощение терпения.
Сын — непонятой боли и юношеского отчаяния. У языческого символа
жизни — горцы, от мала до велика, и там же — волкодав... Море
орущих голов и одиноко сидящий человек, глядящий на них с
брезгливым недоумением... В ню, о которых писалось выше, за
розоватым или цвета капрона женским телом, словно из-за портьер,
выглядывает голова сатира — символ необузданных страстей.
Зыбкость флера, линии, перетекающие одна в другую, хрупкость,
женственность — и кинжальная жестокость эроса, распутства,
бездны... Кентавры Чочиева — быки, ибо они не скачут, а пашут. Один
из них, убитый на корриде, уносится в небо женщиной. Это
действительно вершина, апофеоз сострадания, и пахнет он слезами, а
не парфюмерией...
Великолепны его портреты. И с натуры, и осмысленные в камер-
обскуре сознания, где Чочиев — экспериментатор, исследующий
диффузию между формой и содержанием; возможности
трансформации, деформации; смещая акценты, «нарушая»
пропорции, перспективу, композицию, он ищет В результате — побег
от типажа, от внешнего к тончайшему психоанализу личности, на
изломе, как правило, пережитого, судьбы, порой — мучительной
трагедии... В этом ряду — и Кабалевский, и несчастный алкоголик, и
упитанные циники, раздевающие сальным, липким, как помои,
взглядом всех, даже закованных в латы нравственности...
В этом ряду — серия женских портретов, интересных опять же
проникновением в природу женщины, данной Богом, как чудо, а не
анатомический расклад из настольной книги озабоченного сексолога.
В быту Чочиева можно назвать мужиком в сермяжном смысле
этого слова. Своими руками он построил себе гараж. Может
81